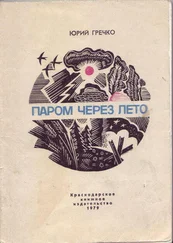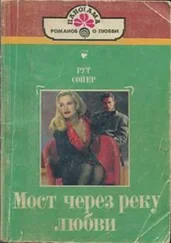Есть сила в идеях. Особая сила есть в русских идеях. Повальное впечатление имеет наша идея на человека. Русского же человека, да еще впечатлительного, такая идея поглощает целиком. За живое она его берет. И вот уже не ясно, жив человек или нет его. Не слышно и не видно — забрала с потрохами досужая идея. Или наоборот: ходит себе товарищ, говорит, ест и пьет, покуривает, посмеивается, работу делает, и ничего по нему не видно, не заметно, постороннему невдомек — разве что ответит невпопад или про себя рассмеется, ни с того ни с сего хмыкнет. Вот он, вроде бы, тут. Но это видимость. Оболочка. А сам он там — витает.
Были абстрактные идеи созвучны страшным денькам, пейзажу с мертвыми ветками черных деревьев, безжалостному холоду снега, ветру с севера, когда от тонкой пыли на сухих тротуарах некуда деться, и губы обветрены, и кожа болит на лице, и солнце слепит глаза. Сквозь идеи абстракций прожил Лешаков, словно прорвался сквозь колючий пейзаж. Из раздумий вынырнул он с зарубцевавшимися шрамами в сердце. Но предвечные дали закатов открывались в размытых сумерках влажных вечеров. Апрельскими акварелями на бумаге просветленного неба полыхали они, предвещая скоро и белые ночи, и тепло, и осторожную дымку вдруг зазеленевших садов, и черемуху парков, блеск реки в полумраке и отрезвляющую лихорадку невских восходов. И с весной он все больше и больше чувства вплетал в размышления. Поступь раздумий его ускорялась. Ох уж эти чувства, но русское сердце вянет в тоске абстракций.
После первоапрельской поддачи зачастили друзья к инженеру. Вспомнили о приятеле, начали наведываться. Но разговора не получалось. И не то чтобы стал нелюдим Лешаков, — говорить было не о чем. Разве что выпить.
Выпивал он охотно. Пьянел. И без конца повторял, твердил, что, к несчастью, русский он человек и что он предназначен . Смущались друзья. Себя русскими они ощущали ко счастью. Лешаков им грозил: «Ничего, — говорил, — все у вас впереди, еще предстоит — нахлебаетесь вдоволь». И о какой-то миссии страдания. Однажды, крепко перебрав, людоедами гостей обозвал. «Сам, — говорил, — я людоед…» Бил себя в грудь. Жалко клацал зубами. Наутро он смутно жалел, словно о важности какой проболтался. Порешил: впредь в дружеских отношениях проявлять сдержанность.
Друзья надолго исчезли. А когда вновь затеяли вечеринку и вспомнили о холостяцкой комнате Лешакова, не смогли его дома застать. Несколько раз заходили — был неуловим инженер. Где-то гулял допоздна. Заявился однажды под утро домой и не выглядел устало, а наоборот, казалось, возбужден, нервно бодр. Принял душ, позавтракал в кухне и ушел на службу свежий, как первокурсник. «Амуры!..» — решили соседи. И правда, был он пленен.
Но не весенние тенета любви оплели инженера. Просто май — теплый, нежно-зеленый, сухой, — май манил, расстилал под ноги тропинки, белевшие в светлой ночи, предлагал одинокие спинки скамеек, одурманивал сиренью, соловьем, театральным восходом над рекой, которая, нефтянисто сверкая, словно струя света среди декораций, текла меж дворцами. В знобком утре дрожали мосты. Устало твердели шаги. И новые мысли застревали в сознании. Мысли врезались. Без логики вдруг возникали они, сильные правдой, которая их породила. И было чувство у Лешакова, что он, Лешаков, не надумал их — а они были всегда в нем, как неугаданные тени.
Недавняя статистика показала, что в новых кварталах, где игра отлитых в монолите бетона завлекательных вертикалей, расстеленных плоскостей и протяжных парабол завязана в слитую композицию, единую идею, материально воплощенную волею архитектора — автора, лидера, полководца проекта, — непредвзятая наша статистика вдруг обнаружила в идеально продуманном пространстве этих комплексов благополучия веселенький рост числа душевных заболеваний. От счастия, видимо, с ума посходили. Чем точнее, успешнее осуществлялся проект, тем более разрушалось рассудков. И психика остальных оставляла желать лучшего: наступало затмение. Обнаружилось наличие некой постоянной нагрузки. Выяснилось, что человеку невыносимо жить заключенным в чужую идею. Жители переставали чувствовать себя собой. Не понимая, откуда распространяется на них это поле невыносимой власти, люди заболевали. И хотя прежде не были они так уж свободны, все-таки начали задумываться о причинах бедствия, и некоторые стали догадываться.
Подобное происходило и с инженером. Не понимал он, что его гнетет и откуда мысли мучительные, но ощущал себя организованным — заключенным. Жизнь предстала ослепительно-новым кварталом бетонных бараков. Загнанный в унифицированную идею, в продуманное пространство — оно просматривалось насквозь, негде укрыться, — в светлом здании нового мира сходил он с ума.
Читать дальше