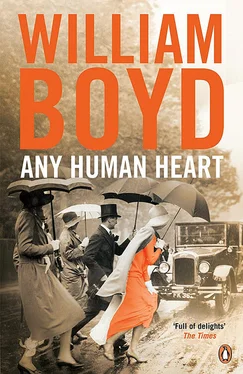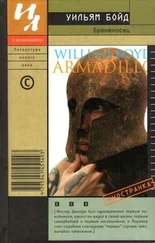Покончив с рагу, Гуннарсон заказал тарелку неизменных сладких булочек. А слопав и их, с любопытством взглянул на меня.
— Как странно, — сказал он. — У меня такое чувство, будто я хорошо вас знаю.
Он говорил на хорошем английском, почти без акцента.
— Вы, вероятно, немало слышали обо мне.
— Я видел так много ваших фотографий, и все-таки не узнал при встрече.
— Я не делаю лестных для меня снимков.
— Нет. Думаю, это потому, что для меня вы всегда были мертвым. А теперь предстали передо мной живым. Странно.
— А Фрейя и Стелла мертвы.
Услышав это, он стиснул зубы и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул.
— Она была такая красивая, — сказал он. — Я очень ее любил.
— Я тоже.
— И Стелла была прелестной девочкой.
Я попросил его не упоминать больше о Стелле. Разговаривать о Фрейе это еще куда ни шло — поскольку я провел с Фрейей куда больше времени, чем он, — но я пропустил два года недолгой жизни Стеллы, и не мог вынести того, что этот чужак знал ее в шесть и в семь лет, — а я не знал.
— Почему вам захотелось встретиться со мной? — спросил он. — Это должно быть… больно.
— Больно, — подтвердил я, — но мне необходимо было увидеть вас, посмотреть, на что вы похожи. Попытаться понять. Заполнить пробел.
Он поскреб затылок и нахмурился. Потом сказал:
— Вы не должны ее винить.
— Я и не виню.
Он не обратил на это внимания.
— Понимаете, она была уверена, что вы погибли, вот и все. Ее убедило в этом ваше полное молчание. Она говорила, что если бы вы были живы, она хоть что-нибудь да получила бы — хотя бы слово. Ей было одиноко. А тут появился я.
Что такое одиночество, я знал.
— Я не виню ее, — сказал я, почти тупо, как будто повторения этих слов было довольно, чтобы себя убедить. — Откуда ей было знать, что я еще жив?
— Вот именно. Понимаете, она думала, что вы умерли. А ей надо было жить дальше.
— Да — это я способен понять.
Разговор велся, как череда задаваемых наобум вопросов и ответов на них, и у меня понемногу складывалась из кусочков картина жизни, которую Фрейя вела в мое отсутствие. Я понимал, что и у Гуннарсона имеются свои проблемы: свое горе, а теперь ему еще приходится как-то примиряться с тем, что я жив и сижу напротив него, — с фактом, что он был и всегда будет для Фрейи вторым, что сердце ее на самом деле принадлежало мне. Я же походил скорее на мужа-рогоносца, столкнувшегося с любовником — в голове у меня то и дело возникали картины, на которых Фрейя и Гуннарсон, голые, предаются любви на нашей кровати. Приходилось насильственно обуздывать воображение. Тут нет ничьей вины, есть только грусть, отчаянная и безнадежная.
Он сказал, что должен вернуться на работу.
— Еще одно, — сказал я. — Вы продали мой дом. Я хотел бы получить эти деньги.
Он помолчал.
— Это был мой дом. Фрейя завещала его мне.
— Дом купил я. Он мой, по естественному праву.
— К счастью, мы живем не по естественному праву.
— Вы вор, — сказал я.
Он встал.
— Вы расстроены. Я на вас не в обиде.
В центре этого обветшалого городишки есть искусственное озеро под названием Тьорн, населенное множеством диких уток. Я купил в отеле бутылку испанского бренди и пошел к озеру, чтобы напиться там до бесчувствия. Бренди отдавало на вкус приправленным марципаном кулинарным маслом, и я смог осилить лишь несколько глотков.
[Октябрь?] Норидж (Чешир)
Джордж Деверелл выглядит раздавленным потерей. Он вежлив, но пребывает в сумеречном состоянии, как будто долго был в обмороке и только что очнулся. Возвращение бывшего зятя из мертвых воспринято им с невозмутимым спокойствием. „Как чудесно снова видеть вас, Логан“, — время от времени повторяет он и легонько похлопывает меня по плечу, словно желая убедиться, что я действительно состою из плоти и крови. Затем я вижу, как он внутренне отпрядывает и сжимается, — я вернулся, я жив, а его дочь и внучка ушли навсегда.
Все заботы по лесному складу взял на себя Робин, он очень обеспокоен глубиной тихого горя отца. В отличие от Джорджа, Робина пережитое мной крайне интересует. Пока я рассказывал ему о моем прыжке с парашютом, аресте и долгих месяцах на вилле, он бормотал непечатные слова, время от времени добавляя к ним: „Ад кромешный“, „Какое варварство!“, „Исусе Христе“ и тому подобное.
Два дня назад из Исландии пришло письмо, содержавшее банковский чек на 400 фунтов. Гуннарсон, честный исландец.
Все мое имущество здесь, упаковано в ящики и сохранено — книги, рукописи, все картины. Даже та мебель, которую не купили Томсетты. У меня нет дома, зато есть все его составные части.
Читать дальше