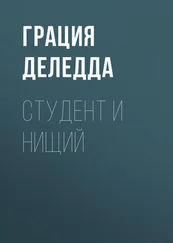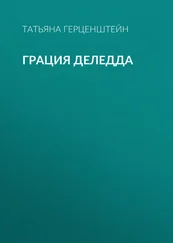— Надо быть доброй, надо быть доброй! А другие разве добры? — отвечала она, кипя возмущением и едва сдерживаясь, чтобы не бросить в лицо самому господу богу рвущееся из глубины души страшное проклятье.— А что же ты не говоришь это им? Ведь они злые, а все равно счастья у них хоть отбавляй. Так чем же я провинилась, за что мне такое наказание? Ну да, я вышла замуж за могильщика, вдобавок он был еще старше меня на сорок лет. Но ведь если я решилась на это, значит, иначе не могла! Что же мне оставалось еще делать, боже милостивый, скажи мне? Нет, правда, скажи, что мне, горемычной, было делать? Одна как перст — ни отца, ни матери, ни братьев! Не то что родных или друзей, врагов и тех у меня не было. Меня даже в служанки никто не брал. Почему, господи, ты дал мне родиться бедной и некрасивой? А чтобы пойти собирать милостыню, у меня не нашлось ни сумы, ни башмаков. Да что там башмаков — у меня даже шнурков башмачных никогда не было. А когда я подросла и стала что-то соображать, разве я не ходила в дом священника и к синдику Маттиа Сенесу и не просила устроить меня служанкой? А что они мне ответили? «Пойди сначала смой коросту с лица!» А Маттиа Сенес натравил на меня своего пса — черного, страшного, как волк. И сейчас, как вспомню, волосы дыбом встают. Стукнуло мне четырнадцать, а я и в церковь заглянуть не смела — не было у меня ни башмаков, ни кофтенки. И я ходила молиться в кладбищенскую церковь, к мертвецам, потому что живые меня к себе не пускали. Там меня и увидел дядя Антонио и спросил, пойду ли я за него замуж? И я пошла, ну что ж тут такого? Люди только смеялись надо мной, но никто никогда не протянул мне руку. А мальчишки закидали нас камнями и ночью трубили в трубы у нас под окном. Но придет время, и для вас загремят трубы Страшного суда, будьте вы все прокляты!
Да, господи, нас так замучили, что муж мой плакал даже над мертвецами, которых ему приходилось хоронить, — словно были они ему сыновьями или братьями. И наконец, он мне сказал: «Знаешь, Разалия, доченька моя, подамся-ка я в Америку! Столько наших туда уехало, поеду и я. Здесь и работы уже не стало, а в Америке, говорят, бывает мор, много людей помирает. Бог даст, может, я там чего-нибудь заработаю».
Ты знаешь, господи, как мне хотелось уехать вместе с ним! Я провожала его до самого порта, и он всю дорогу не мог решиться — брать меня с собой или нет. Но в конце концов пришлось мне возвращаться домой. Брела я, брела пешком и стерла себе ноги в кровь, но кое-как доплелась: ведь даже собака и кошка и те возвращаются в родной дом! А о муже я с тех пор ничего не слыхала — ведь он не умеет писать.
Прошло уже пять лет, может, за это время он умер и кто-то похоронил и его. Я ходила к ворожее узнать, жив ли он, а может, — всякое ведь случается! — нашел себе другую, но ворожея спросила с меня одно скудо, а откуда ж мне было его взять, господи? Посуди сам, где я могла раздобыть деньги, если сейчас кругом такая нужда, что даже сам синдик Маттиа Сенес охотится на куропаток, а потом отсылает их на материк и продает там. Так посуди, господи, как же мне не проклинать людей? А, вот он и сам, Маттиа Сенес, шакал проклятый! Будь проклят и он, и те, кто жрет его куропаток, и даже псы, которые обгладывают их косточки!
И действительно, к лачуге Разалии приближался стройный моложавый мужчина в полуохотничьем, полукрестьянском холщовом костюме. С ним не было ни собаки, ни ружья. Дойдя до места, где тропинка сворачивала в горы, он сошел с нее, перепрыгнул через изгородь и направился прямо к Разалии. Она поднялась, и сердце ее забилось сильнее. Правда, ей нечего было терять и некого бояться. Но все-таки этот необычный гость внушал ей какой-то смутный страх, и, когда он уселся на траве, скрестив ноги и обхватив их своими большими руками, она устремила на него испуганный взгляд. Но он ничего не ответил, отвернулся и смотрел вдаль, туда, где розовели под лучами закатного солнца белые домики деревни. Лицо его заросло густой черной щетиной, а под крутым лбом и косматыми бровями прятались, словно озера под скалами, удивительно красивые, светлые, прозрачные глаза.
— Я принес тебе вести о муже, — сказал он вдруг. — Плохие вести.
— Он умер?
— Да, умер.
Она низко склонила голову, но не заплакала. Стыдливость, или, вернее, целомудренное чувство удерживало ее от слез перед человеком, который сообщил о смерти мужа так, словно речь шла об издохшей скотине.
А он, казалось, был чем-то встревожен. Дважды он пытался взглянуть на нее и дважды отворачивал лицо, как будто не мог, не смел встретиться с ней взглядом. Наконец он набрался духу и, оглядевшись вокруг — нет ли кого поблизости и не подслушивает ли кто, — посмотрел на нее, прищурив глаза, в которых таилось какое-то хищное, злое очарование, и сказал:
Читать дальше