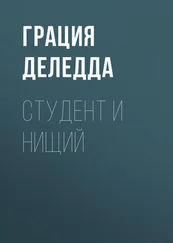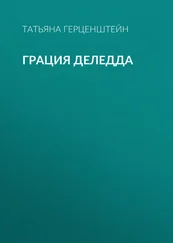— Не надо мне ульев, вот он — мой улей. Ах, покусали меня твои пчелки! Зато сколько меду, сколько меду, пташечка ты моя! Посмотри на меня, Джула! Ты больше не сердишься?
Она молчала, смотрела ему в глаза пристально, как смотрела некогда в печь. Лицо ее понемногу белело, а потом порозовело от поцелуев; она была хороша, как десять лет назад. Он встал на колени, обнял ее, поднял и понес в развалины, чтобы укрыть от безлюдья и тишины.
Джула была как мертвая — мертвая от счастья и от страха. Ей казалось, что кони пронеслись над ней, растоптали ее. Только голос остался, чтобы спросить.
— Козма, сердце мое, вот мы поженились. Ты меня взял, можешь мне все сказать, — зашептала она, кладя ему на плечо растрепанную голову, — это ты его убил? Скажи. Мы теперь одна плоть, я тебя не предам. Скажи, я ведь сердцем чую.
Он поднял лицо, и они снова посмотрели друг на друга. Она смотрела на него жадно, испуганно, с надеждой (так смотрит человек на краю пропасти), призывая спасение и зная, что его нет. И он смотрел на нее: он знал, что все кончено, но пропасть влекла его.
— Да, — сказал он наконец. И закрыл глаза. Она не крикнула, не шевельнулась.
— Козма, сердце мое, зачем ты его раздел, зачем ты его изувечил?
— Он сам ограбил меня, он меня изувечил, тебя отнял. И ты меня ограбила, изувечила, бросила меня, потому что я бедный, а он богатый... Вот почему.
— А где его платье?
— Я здесь спрятал, в развалинах. Вот здесь, — сказал он, поворачиваясь, чтобы поискать взглядом место. А когда обернулся к ней, увидел, что лицо ее опять посинело и глаза закатились, словно хотели спрятаться.
— Джула, Джула!
Он вскочил, поднял ее, понес к телеге. Положил на траву и пальцами опустил веки — очень страшно было смотреть на эти белые, невидящие глаза.
Он не плакал, не кричал, но не решался положить ее в телегу и ехать в деревню в своей праздничной одежде. Так просидел он весь день; закат обагрил кровью кусты и камни; исчезла тень столба, все стало тенью вокруг мертвой женщины. Он смотрел на нее, и ему казалось, что она наконец заснула после стольких тяжелых ночей, разметав по траве косы, сложив натруженные руки.
— Почему ты его выбрала? Что ж он, лучше меня? — спрашивал он и думал о старой бабушке — вот она ждет, приготовила кофе и угощение, а придется ей шить ему платье вдовца.
Он почувствовал вечернюю сырость и подумал, что это повредит бедной Джуле. Тогда он поднял ее в последний раз, положил в повозку, покрыл простыней, спустив ее вроде крыла. Снял с волов апельсины и цветы и положил рядом с женой; потом впряг волов, но все не решался ехать.
Стемнело; луна поднялась над развалинами, и он увидел позади себя черную тень. Вот и он вдовец, но нет у него ни слуг, ни богатства, ни сыновей. Однако незачем бабушке зря трудиться. Он вернулся в развалины, порылся, достал платье вдовца, положил его в мешок у ног умершей и повез в деревню. Телега тряслась, свет луны дрожал, и мешок ерзал, словно в нем был живой ягненок. И Козма думал: все, что случилось в этот день, послано Богом как возмездие за то убийство. Да, это Бог внушил ему спрятать тут вещи, потом взять их и носить в знак наказания.
Действительно, люди вспомнили, чье это платье. Он сознался и был осужден.
Топо — мышь (итл.).
Нурра — трещина, ущелье (итал.).
Прекрасная Венера (лат.).
Аристей — в древней мифологии, бог — покровитель стад и пастухов, который научил людей виноградарству и пчеловодству.
Синдик — здесь: деревенский голова.
3улоага (Сулоага) (1870—1945) — испанский живописец, известный картинами с оттенком гротеска.
Специальный заслон между очагом и дверью.
Бонарио (Bonario) — добряк (итал.).
Бефана — волшебница, приносящая детям подарки.
Мир вам! (лат.)