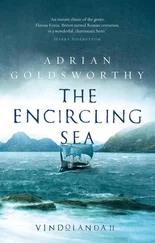Хеймд подал стакан с виски и сандвич с сыром. Виски обожгло губы.
— Говорила ли она что-нибудь? Да нет. Винила ли вас? Возможно. Они всегда кого-нибудь винят. Платиновая карточка на обвинения и есть прерогатива звездности. Важно другое: вините ли вы себя сами?
— Да, наверное. Я должен был… ну, что-нибудь еще предпринять…
— А что? Вы все сделали правильно. Не хотели причинить боль Ли. Защищали, как могли. Но толпа есть толпа. — Хеймд помолчал. Джон медленно жевал и потягивал виски. — Вы же ее прочувствовали. Там, в самой людской сердцевине. Мощь толпы внушает страх. Ваша была еще маленькой. А представьте тысячи, сотни тысяч. Человек перестает быть самим собой, превращается в частицу чего-то огромного. А потом его охватывает паника. Это когда наступает понимание, что он не сам по себе, а составляющая всего. Мы проживаем жизни как индивидуумы, личности со свободой выбора. Хотим походить на бильярдные шары: встречаться только при соприкосновении. Но на самом деле участники огромной общей игры. И если входим в нее, чувствуем ее, ощущаем пульс, гулкое биение — это похоже на расщепление атома, освобождение энергии. Вот кто мы есть на самом деле. Толпа, общество — так цивилизация ощущает себя в машинном отделении. Самое сильное ощущение, значительнее славы, звездности и любви. Толпа смывает их с ваших рук и в конечном счете смывает все остальное. Таков, приятель, марш человечества.
— Не знаю, Хеймд, откуда вы все это взяли, но если когда-нибудь надумаете основать религию, я ваш человек. А сейчас отправляюсь спать.
— Да, уже поздно, — улыбнулся шофер. — А я уезжаю добывать утренние выпуски — надо знать, что думает человечество о нашем спектакле. Она о вас тревожилась. Может, в чем-то и обвинит, но имейте в виду, она вас любит. Сама мне призналась. Не понимаю, почему люди говорят мне такие вещи.
— Не стоит ей смотреть на меня в таком виде.
— Да какой такой вид? Нормальный. Будто только что столкнулись с привидением.
В спальне было тепло. По кровати ползли первые щупальца рассвета. Ли, как зародыш, свернулась в постели. Джон лежал на спине и смотрел в сереющий потолок. Ладонь скользнула по его груди к животу.
— Я не сплю, — прошелестел шепот.
— Извини, что не удержал, что выпустил.
Ли перевернулась и обвила руками его шею.
— Все в порядке. Хеймд вовремя пришел на помощь.
— Там было так страшно.
— Да, пугающий вышел премьерный денек.
— Пьеса. Я совсем о ней забыл.
— Спасибо. А я нет. Лежу, наелась до отвала валиума и думаю только о ней. Никогда в жизни так не боялась. Вот ведь черт!
— Ты была потрясающа!
— Скажи мне правду, Джон, пока мы с глазу на глаз, вдвоем.
— Правду?
— Да.
— Пьеса ужасна. Я имею в виду постановку. Ходульная, манерная. Ты нервничала, от волнения запиналась. Первое действие провалилось, но зато потом… Бесподобно!
— Это когда я разделась?
— Тогда. Вышло не то чтобы шокирующе, не то чтобы непристойно — необычайно. Настоящий театр. Таким он и должен быть. К месту, но совершенно неожиданно. Разделась не кто-нибудь — сама Антигона. Абсолютно обнажилась — осталось одно ее самопожертвование. Тебе следовало что-то предпринять, чтобы перестать казаться Ли Монтаной, которая притворяется Антигоной. Раздевание каким-то образом устранило искусственность. Никто не отрицает, ты осталась сама собой, а Антигона получилась в исполнении Ли Монтаны этакой рискнувшей всем девушкой. Но тебе удалось разрушить барьер между собой и зрителями.
— Что ж, согласна. И только благодаря тому, что я сняла с себя платье. Осмелюсь предположить, что это было уместно для роли. — Ли рассмеялась. — А еще пощекотала нервы вам, мужикам, — вышибла из головы мысль, что я не знаю, как вести себя на чертовой сцене.
— А когда ты решила так поступить? Актеры явно ничего не подозревали, были просто поражены. И Сту дошел до белого каления.
— Еще как дошел. Из-за одного этого стоило рискнуть. Сраный пидор! Я пришла в театр, села в гримерной и поняла, что все никуда: постановка ужасная, я ужасна. Короче, грядет самый жуткий в моей жизни провал. Меня хотели распять. И тогда вспомнила об отце, что вышла на сцену главным образом ради него. Подумала: старый ты хрен, никогда ничего мне не делал, только косился да виски хлестал. Но когда-то рассказывал: если они играли бурлеск и представление проваливалось — публика готовилась разорвать актеров и разнести зал, — на сцену выпускали стриптизерш. И всегда срабатывало — титьки и задницы остужали горячие головы. Вот и я решила: надо выпустить стриптизерок. Выбор был таков — либо я, либо несчастная, толстая, целлюлитная деревенщина, которая играла мою сестру. Я встала перед зеркалом и прикинула: сойдет мое старое тело или не сойдет? Волосы, конечно, требовалось убрать. Я залезла в холодный, вонючий душ и при помощи маленького зеркала и подвернувшегося под руку лезвия пыталась сбрить с себя лет двадцать. А сама ужасно волновалась — до занавеса оставалось десять минут. — Ли села в постели и закурила сигарету. — Подправляла там, подправляла сям, так что стала похожей на Граучо Маркса [77] Граучо Маркс (Джулиус Генри; 1890–1977), в 50—60-е гг. выступал по радио и телевидению. Лауреат премии «Оскар» (1973).
в коме. И в итоге содрала все целиком.
Читать дальше
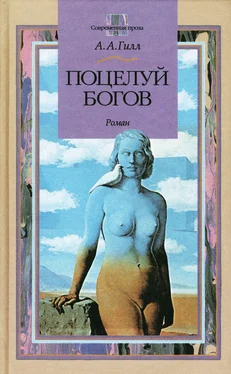







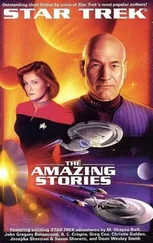
![Адриана Триджиани - Поцелуй, Карло! [litres]](/books/414122/adriana-tridzhiani-poceluj-karlo-litres-thumb.webp)