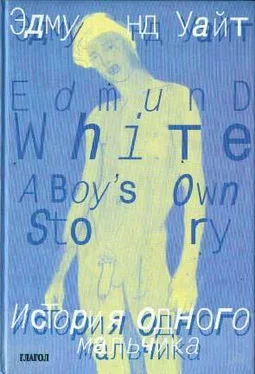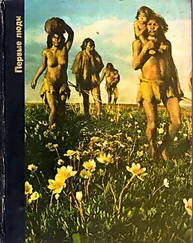— Но если Бог такой всезнайка, Он должен был с самого начала предвидеть, как люди будут страдать, а если предвидел, тогда на самом деле у нас никогда не было выбора, и, если Он — сама доброта, тогда почему он позволил нам страдать, нет, подождите минутку…
Отец Бёрк перестал постукивать пальцами. С лица его исчезла улыбка, а глаза затуманились. Он позволил лицу сделаться старческим и усталым, как бы говоря, что виноват в этом я. Внезапно он устремил взгляд на меня, язык, затрепетав, вернул к жизни губы, и он сказал:
— Давайте оставим эту философию в стороне, — солидная порция иронии с намеком на то, что, если душа моя его интересует, то интеллект уже утомил, ибо душа может быть вечной, а интеллект слишком явно остается подростковым, — и перейдем к чему-нибудь более насущному. — Он прижал кончики пальцев ко лбу и спрятал лицо в ладонях. — Разве вам нечего мне рассказать? — спросил он загробным голосом из своего рукотворного шатра.
Однако для запугивания он выбрал не ту жертву. В конце концов я был буддистом. Я никогда не верил, разве что в мимолетных фантазиях, в сердечного, отзывчивого, чуткого христианского Бога, который слишком явно походил на средоточие всех людских желаний и страхов. Как личность, Бёрк заинтриговал меня сильнее, чем его божество. Я оценил то ощущение драмы, которое он хотел придать моему существованию, и тешил себя надеждой, что он считает меня, или по крайней мере некий важный, хотя и весьма отвлеченный, принцип в моей душе, достойным спасения.
Но при этом я также почувствовал, как в душе у меня нарастает жгучая потребность сохранить независимость. Разумеется, я реагировал на притягательность божественной гидравлики, этого мира пропащих или коронованных, загубленных или застывших в напряженном ожидании душ, этих шкивов и площадок, опускающихся и поднимающихся на огромной сцене, я сознавал, что мой взгляд на вещи кажется по сравнению со всем этим поверхностным, лишенным широты и субъективным. Однако очаровательной запутанности мифа не достаточно для того, чтобы добиться веры. У меня не было никаких оснований предполагать, будто в конечном счете действительность окажется по своей природе похожей на закулисный мир оперного театра.
На более эмоциональном уровне я питал отвращение ко всему авторитарному. Я мог стремиться в широко раскрытые, спасительные объятия некоего отца, но при этом ненавидел непрошеную отеческую заботу. Мало того, против нее я был настроен крайне враждебно.
— Да, конечно, — сказал я. — Я хожу к психиатру из-за противоречий, которые чувствую по поводу некоторой своей склонности к гомосексуализму.
При этих словах из-за рук отца Бёрка нерешительно выглянуло его лицо. Такой короткой и выразительной исповеди он не ожидал. Восстановив душевное равновесие, он решил оглушительно расхохотаться — смех столетий католицизма.
— Противоречий?! — воскликнул он, уже прослезившись от смеха. Потом, немного отдышавшись, священник негромко и бесстрастно добавил: — Но, видите ли, сын мой, гомосексуализм — это не только противоречие, которое требуется разрешить, — на этих словах он запнулся, точно они напомнили ему мерзкие кусочки отбросов, — гомосексуализм — это еще и грех.
Думаю, он понятия не имел, сколь слабо действует на меня слово „грех“. С тем же успехом он мог бы сказать: „Гомосексуализм — это бяка“.
— Но я испытываю влечение к мужчинам, — сказал я. Хотя нечто дерзкое во мне вынудило меня произнести эти слова, заговорив, я тотчас же осознал, что становлюсь посмешищем. Я превратился в химического блондина с женственными запястьями, а мой репсовый галстук — в кружевное жабо; я сделался гомиком, сидящим за роялем и с жеманной улыбкой исполняющим для мамочки и ее подруг по бридж-клубу концертные вариации на тему прошлогодних популярных мелодий. Бесполезно было отрицать свою виновность. Все, что я мог отстаивать — так это свое право выбирать между гибелью и изгнанием.
— Если вы испытываете какое-то чувство, совсем не обязательно в соответствии с этим чувством поступать, — сказал священник. — Американцы сдерживают свои чувства, как будто те разрешены только в исключительных случаях. — Он допил бренди. — Я, например, дал обет безбрачия и его соблюдаю.
— И чем же вы утешаетесь?
В ответ на мою дерзость он улыбнулся.
— Вы хотите спросить, занимаюсь ли я мастурбацией? Нет, не занимаюсь. Изредка бывают ночные поллюции.
Он поднес кончики пальцев к губам. Интересно, подумал я, хранят ли прихожанки, предлагающие священнику свои услуги в качестве экономок, эти затвердевшие льняные святыни.
Читать дальше