К тому времени, когда мы с Ланой близко сошлись, ее отец, любивший свою жену самоотверженно, без всяких условий — я не встречал более бескорыстной любви мужа к жене, — довел до точности алгоритм поисков. В Москве чуть меньше десятка крупных железнодорожных вокзалов, и обычно у него уходил день-два на то, чтобы разыскать жену. Отец Ланы никогда не брал детей на поиски. Он приводил жену домой, смертельно уставшую, помогал ей принять ванну, укладывал в постель и приносил чашку малинового чая с коньяком. Ланин братик залезал к маме в постель и засыпал, сжимая обеими руками ее руку. После каждого происшествия в течение недели Лана и ее отец еженощно дежурили у постели больной. Затем все возвращалось на круги своя, и так продолжалось до следующего исчезновения.
К концу весны 1985 года мы с Ланой разорвали любовные отношения, но сохранили дружбу. Вскоре после нашего расставания она вернулась к своему бывшему жениху, талантливому скульптору Матвею Грубману. В прошлом киевлянин, сорокалетний Матвей ваял сцены из уничтоженной жизни еврейских местечек — такой, какой знал эту жизнь по рассказам бабушек и дедушек, восполняя фантазией недостающие детали. Он почти не мог выставляться и работал в литейном цехе где-то за городом. Еще до того, как мы с Ланой стали «тайными» любовниками, я побывал в мастерской Матвея вместе с Ланой и тремя общими знакомыми. Мне запомнились его оливково-карие глаза, мускулистое бородатое лицо и черненые толстые пальцы.
Почти все лето после нашего разрыва меня не было в Москве, и мы с Ланой увиделись только следующей осенью, на вернисаже, куда она пришла с Матвеем, который мрачно косился на меня. Я помню до мельчайших подробностей то раннее декабрьское утро 1985 года, когда мама разбудила меня и позвала к телефону, и Лана просто сказала, что ее мама «выбросилась из окна». На часах не было семи, и я смог только вымолвить: «Я все понял, Лана». Воспоминания об этих похоронах — иней на голых ветках, подавленные друзья, заполнившие небольшую квартиру, и вместо шивы (еврейского траура) русские поминки с водкой и солеными грибами, со слезами и рыданиями — будут со мной всю жизнь. Эта была первая смерть близкого знакомого, пережитая мной во взрослом возрасте. Знать, что эта красивая, любящая и любимая женщина буквально сбежала из жизни, распахнув окно и выйдя из него на улицу с высоты, было просто невыносимо. Эта тяжелая история стала долгодействующим противоядием: чувствуя себя подавленным, я вспоминаю ее смерть, и моя собственная хандра кажется мне дуновением весеннего ветерка. Я уже много лет живу в Америке, но все никак не могу привыкнуть к буржуазному безразличию, с которым некоторые американцы произносят слово «депрессия» — как будто это некий аксессуар цивилизации, вроде шикарной машины, произведения искусства или бутылки выдержанного вина.
Вскоре после кончины матери Лана переехала к Матвею, и мы с ней больше года практически не общались. Она знала о моих любовных похождениях, среди героинь которых была и ее бывшая одноклассница Маша Вишневская. Лана позвонила мне в мае 1987-го, узнав от общих знакомых, что мы наконец-то уезжаем, эмигрируем. Выяснилось, что она тоже собиралась в путь с отцом, братом и бабушкой. С Матвеем все было кончено. «Теперь уже навсегда», — сказала она. Я ни о чем не спрашивал. Ко мне на отвальную она пришла с книгой Павла Муратова «Образы Италии» в берлинском издании 1924 года, о котором я всегда мечтал. Мне посчастливилось быть обладателем этой редкости только неделю: книга исчезла в коробке с другими ценными книгами, которые не совсем чистый на руку американский журналист пообещал вывезти из страны и «нечаянно потерял».
Лана и ее семья уехали из Москвы спустя две недели, но догнали нас в Ладисполи. Я столкнулся с ними вечером на главной площади, служившей беженцам салоном под открытым небом. Они стояли вчетвером и ели джелато: Лана, ее отец с висевшей на его локте и мямлящей что-то старушкой-матерью и младший братик. С короткой стрижкой, в бирюзовом сарафане с открытой спиной и грудью, Лана выглядела явно моложе своих лет, а было ей двадцать пять. Я ей сначала очень обрадовался: здесь, в Ладисполи, эта встреча казалась связующим звеном с московским прошлым и всеми его обитателями. При этом меня немного смущало, что мы встретились в присутствии наших родных на площади, полной скучающих и жадных до сплетен беженцев. Казалось, будто кто-то подстроил это свидание с моей бывшей зазнобой. Четвертый акт драмы только начинался, обещая ревность, признания, взаимную отчужденность, слезы отчаяния, а знаменитая чеховская двустволка пока еще не застрелила насмерть нашу любовь за угловым столиком приморской траттории.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


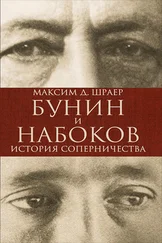

![Максим Шраер - Исчезновение Залмана [litres]](/books/435303/maksim-shraer-ischeznovenie-zalmana-litres-thumb.webp)


