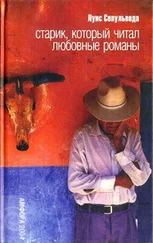Немного больше года назад ему неожиданно стало плохо, и врачи обнаружили у него рак на терминальной стадии. Гасфитер положил свой керосиновый сварочный аппарат возле самой кровати и часами озабоченно смотрел на него. В его глазах была тоска, но не столько по поводу неизбежности собственной смерти, сколько в связи с той беззащитностью, которая ожидала краны, трубы и прочие элементы, зависевшие от его рук.
Он должен был с этим что-то сделать и сделал. Собрав последние силы, он собрал своих клиенток, которых считал самыми близкими, и объяснил им, что мир не может остаться на милость ржавчины и плесени, и поделился с ними всеми секретами своей профессии.
Несколько дней назад, в Сантьяго, его дочь Дорис рассказала мне об этом слесарном университете, как инструменты переходили из рук в руки, тем временем как ученицы, словно в древних ритуалах посвящения, повторяли технические термины. На похороны мастера Корреа пришло много народа, но среди родни и соседей особенно выделялся батальон женщин-гасфитеров.
Меня никогда не волновало и не волнует, что происходит в богатых кварталах, но мне небезразлична судьба моего квартала Сан-Мигель, Ла-Систерна и Ла-Гранха.
И чувствую облегчение от того что знаю, что последовательницы мастера Корреа, с инструментом за плечом, обходят его улицы, входят в его дома и добиваются того, чтобы вода текла свободной и чистой, безо всяких примесей, как большая братская правда бедных, та, которая никогда не ржавеет.
Он называется Малы Лосины и с самолета выглядит как охровое пятно в Адриатическом море, возле побережья страны, которая когда-то называлась Югославией. Однажды, попав туда без особых планов и сроков, в старом доме в Артаторе я начал писать текст, который стал моим первым романом.
Повсюду цвели сливы, олеандры и люди. Процветала, например, Ольга, красавица-хорватка, сочетавшая свои обязанности по содержанию пансиона с любовью к хриплому голосу Камарона де ла Исла. Процветал Стан, словенец, который каждый вечер разжигал мангал, открывал несколько бутылок сливовицы и приглашал соседей и прохожих насладиться гостеприимством своей террасы. Процветали Гойко, черногорец, поставлявший рыбу и кальмаров к праздничному столу, и Владо — македонец — певец непонятных, но оттого не менее прекрасных арий. Рассказывая свои бесконечные истории, процветал Левингер, боснийский аптекарь, еврей, бывший санитар антифашистского партизанского отряда. Иногда Панто, серб, которого когда-то выгнали из флота, брал в руки аккордеон, все мы пели, и за второй бутылкой сливовицы мы братались нежностью уменьшительных: Ольгица, Станица, Гойкица, Владица, Пантица. Мы понимали друг друга благодаря нашему вавилонскому винегрету из итальянского, немецкого, испанского, французского и сербо-хорватского.
- Главное, это что мы понимаем друг друга, — говорили мне. И повторяли: — В Югославии мы все друг друга понимаем.
Тшибили, салуд, прозит, салуте, санти.
В течении многих лет Малы Лосины был моим тайным раем, был пока не произошло что-то непоправимое, пока не возникло какое-то странное предчувствие, чего никто из моих друзей не смог мне объяснить, но это особенно замечалось в перемене настроения или молчании, когда речь заходила об истории страны.
Когда дикость сербского национализма вытащила из музеев обмундирование «четника» и дикость национализма хорватского облачилась в «усташа», остров не остался в стороне от конфликта.
Ольга закрыла двери своего сердца для фламенко и двери своего пансиона для всех, кто не хорват. Один из наступивших дней застал Панто марширующим в одиночку по улицам Арататоре, неся с собой сербский флаг и старую ненависть, смешанную с алкоголем. Веселый полуграмотный парень, еще недавно игравший на аккордеоне, повторял теперь бредовые речи, присущие всем на свете националистам и в которых особенно нападал на еврея Левингера, обвиняя его в том, что тот — босниец и поэтому является исламским фундаменталистом. Стан уехал в Любляну и от его красивого дома остались только фотографии, изувеченные ножницами отчаяния. Гойко и Владо тоже покинули остров, запуганные Панто, который пытался заставить их составить ему кампанию в его грустном параде во имя великой Сербии и Ольгой, увидевшей в них православную угрозу для своей великой католической Хорватии.
Левингер перед самой сербской осадой переехал в Сараево. Оттуда он написал мне исполненное боли письмо: «Нам не хватило по крайней мере двух поколений, чтобы освободиться от рака национализма, единственным симптомом которого является ненависть».
Читать дальше