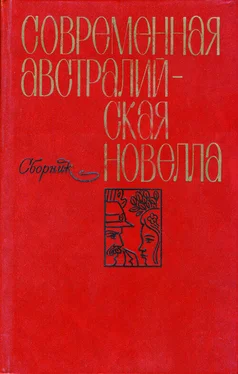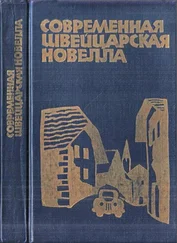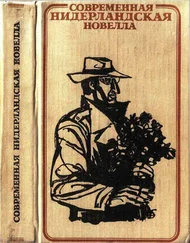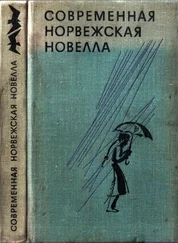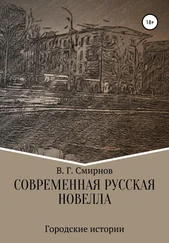Вечность — жертва времени.
Едва наступила вечность, как я услышал голос матери у входной двери. Неторопливо, как матерый преступник, я спрятал фотографию во внутренний карман. Я помнил, что этот карман у меня слева и что божественное лицо нарочно повернуто внутрь. И ее глаза глядели прямо в мое сердце, которое представлялось мне красным, как червонный туз, округлым, как артишок, и сделанным из чего-то такого, что на ощупь было похоже на лепестки магнолии. Я согнал сияние со своего лица, жестом картежника собрал веером остальные фотографии, и, когда вошла мать, я воскликнул — о, прекрасно изображая невинное и простодушное дитя:
— Смотри, что мне прислала тетя Мета!
И ни слова о божестве, глядевшем в мое сердце, — ни одного слова. Я так ничего и не сказал матери. И фотографию, и свою любовь я скрывал семь лет. И — ни разу не выдал себя.
Но так как мои карманы и ящики стола подвергались материнскому осмотру, мне приходилось всегда быть начеку. Сейчас я даже не могу припомнить все тайники, куда я прятал свою любовь, если было невозможно носить ее при себе. Когда я вынужден был расставаться с ней и прятать под бумажную прокладку коробки из-под обуви, где держали шелковичных червей, в подпоротую обшивку гладильной доски или в тяжелую, как гробовая плита, Библию, которую никто не читал, мне казалось, что там ее нежная улыбка растаяла, а смелые глаза стали сонными.
То, что мое поклонение не проходило, а даже усиливалось, было (и осталось) удивительным, так как я с невероятной быстротой опережал ее годами. Во мне изменилось все, кроме моей восторженной влюбленности. А девочка не менялась, хотя ее прелесть приобрела другой смысл: ее глаза открывали мне новые истины, они мерцали, словно перламутровая пленка на черной нефти, и в то же время были неподвижны и таинственны, как бесконечность.
Я изменился. И все мои родственники тоже. С первого взгляда казалось, что их оживленность, бодрость, энергичная жестикуляция и жизнелюбие остались неизменными. Но если всмотреться, оказалось, что позолота изрядно стерлась или появились тонкие, как волосок, трещинки. Словно тарелки, которые передержали в горне для обжига, вид моих дядей и теток из тех, кто постарше, доказывал, что они слишком долго пробыли в горниле жизни. Чем больше набегало морщинок вокруг глаз, чем больше редели или покрывались сединой волосы, раздавались вширь или усыхали тела и клонились к земле — последнему своему пристанищу, — тем чаще я замечал, что они становятся все болтливее и шумнее. В их веселье появился оттенок вульгарной развязности, они беспрерывно хохотали, забывая, над чем и отчего; впрочем, это уже не имело значения. По-видимому, никто не решался спросить: «А почему, собственно, мы смеемся?» — и смех не умолкал. Все эти эпохальные светила, согревавшие мое раннее детство, приближались к закату по небу, багровевшему от сдержанного гнева.
Самой бойкой из этих угасающих светил была тетя Марта. Весь семейный клан давно уже прозвал ее Веселой Вдовой — довольно необычное прозвище среди множества супружеских пар. Мне то и дело доводилось подслушивать или выслушивать, что муж тети Марты был красив, обаятелен, богат, талантлив и так далее. Я пришел к выводу, что умершие непременно обладают всеми качествами, которых почти не бывает у живых, а если и бывает, то далеко не все. Можно подумать, что избыток хороших качеств является непременным условием для смерти. Это так трагично, повторяли все, что он умер через два месяца после свадьбы. Он и милая Марта, в один голос утверждали все, были отличной парой и безумно любили друг друга. Как я узнал, Марта сначала искала утешения в путешествиях, потом в путешествиях и портвейне, а в конце концов не столько в путешествиях, сколько в портвейне, и… тут голоса понижались, но я, напрягая слух, все-таки услышал… и в молодых людях.
Я видел ее не часто. Она всегда была вызывающе накрашена. Ее хриплые сарказмы были ужасны. От ее мехов, в которых поблескивали злые глаза лисьих морд, уткнувшихся носами в свои драгоценные туловища, пахло крепкими духами; под лайковыми перчатками выпирали кольца. Она курила нежно-голубые, желтые и сиреневые сигареты с золотым фильтром. Она стала позором семейного клана. Она была членом семьи, но к ней относились как к домашнему зверьку с какими-то странными пороками. Впрочем, добродетели так же неотвратимо старят и добродетельных: простодушие переходит в раздражительность, привычки — в наигранность, милые шалости — в назойливые чудачества.
Читать дальше