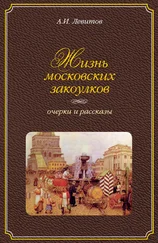Когда упал Мольер, сдувший, как выяснилось, «Тартюфа» с антарктического еврея Шмудсена, червь сомнения закрался в души бессметных.
Они не были уверены в Генрихе Гейне, но в том, что их благородный Мольер ничего ни у кого не тащил — они не сомневались, и один бессмертный — чтоб он сдох! — потребовал оригиналы.
Хилель написал бы и оригиналы, но индонезийского он не знал, и с хинди у него были проблемы, и даже на китайском он не говорил.
— Зачем вам оригиналы, — удивился он, — Шмудсен писал на самоедском наречии! Или вы знаете хинди с китайским?
Оказалось, что несколько бессмертных знало, а один даже выкрикнул «Мго!», что на ирокезском означало «Еще и как!»
«— Конечно, — подумал Хилель, — когда живешь и не умираешь, и не бомбишь атомный реактор — можно выучить и уйгурийскпй. Пустил бы я вас на территории — увидели бы, какие вы бессмертные…»
— В оригинале не так смешно, — продолжан он, — великий французский язык позволяет…
Бессмертные настаивали.
— Бикицер, — сказал Хилель, — оригиналы потеряны.
— Позвольте, а с чего ж вы делали переводы?
— Не забывайте — я летчик, — напомнил Хилель, сел в самолет и улетел в Израиль.
Вскоре по возвращению его послали в Южный Ливан, где он погиб от пули «Хизбаллы».
На его похороны прилетел Рафи.
Было жаркое солнце, гроб был накрыт бело — голубым флагом.
Впервые за долгие годы Рафи плакал.
Раздались залпы салюта. Он подошел к краю могилы.
— Хилель, — сказал Рафи, — тебе не стыдно? Ты даже не закончил антологии!
— Не забывайте, я — летчик, — донеслось откуда‑то с неба…
В одно ясное утро, когда испытываешь симпатию к людям — случается такое раз в три года, впрочем, к вечеру все проходит — я получил письмо из России от Жужанского, «par avion», но без марки.
— С вас 15 франков, — сказал почтальон, — письмо тяжелое и пахнет селедкой…
Я раскрыл.
— «Дорогой Барабулька, это твой Абрыська!»
Абрыська, — как себя называл Жужанский, подробно описывал всю свою жизнь со дня нашего расставания, 13 лет день за днем.
«— Если помнишь, — писал он, — когда ты уезжал, твой Абрыська весил восемьдесят два пятьсот, теперь — неполных сорок девять! Что ты хочешь, если последние пять лет я ем одну селедку».
— Ага! — загадочный запах был объяснен.
Письмо я читал с отвращением, так как с детства ненавидел селедочный аромат, которым провоняли фразы, отдельные слова и даже буквы. Особенно благоухала «Ж» и, Абрыська почему‑то не обходился без нее ни в одном слове:
— Жизнь дорожает, — с трудом читал я, — жрать нечего, жуем жмых, невозможная жлоба и жуть, болел желудком, желчным пузырем и желтухой. Жалуюсь на простату, от которой лучшее лекарство — любовь… Ты помнишь, как твой Абрыська умел любить, но какая любовь сегодня, на одной селедке? Может ли мужчина, как я, поцеловать женщину, съевшую сельдь? А сельдь сегодня едят все.
Я — поэт, романтик, идеалист, буревестник с огромными крылами, который может летать в поднебесье, а его заставляют ходить по этой жалкой земле, Я буревестник с простатой, Барабулька, которому хотят обрубить крылья! Но я парю, и творю, и худею, и к моменту, когда ты получишь это послание, буду весить не более сорока семи! Обнимаю, твой Абрыська».
Целый день я ломал себе голову, чего это он вдруг написал мне письмо, впервые за 13 лет? Чтоб сообщить свой вес или что он парит? Но он парил всегда, правда, раньше он себя называл «орлом», но что только время не делает с человеком. Я был растроган, к тому же это был день, когда я любил людей. Я пошел в магазин, накупил колбас, сыров, кофе. лекарств от желудка, желтухи, желчного пузыря и прочих хвороб на «Ж», баллончик аэрозоли от селедки и выслал все авиапочтой.
Давно я никому ничего не покупал и обнаружил, что все дико подорожало — одна посылка стоила мне четырех гонораров за рассказы в «НАШЕЙ МЫСЛИ», — газете, где я регулярно печатался.
Вечером я позвонил Жужанскому. Минута стоила три франка. На 12 он плакал от счастья. На 18 — признавался в любви, на 26 франков парил, на четыре рассказал, кто дал дуба и на три — кто уехал.
— Кстати, Барабулька, — кричал он, — у меня — геморрой, становится трудно парить, но даже он не может мне помешать писать с утра до ночи — творю стоя, как Хемингуэй!
— Абрыська. — сказал я, — пришли что‑нибудь, постараюсь напечатать. Ничего не обещаю, но если удастся, сможешь себе что‑нибудь купить на доллары.
Он плакал от благодарности:
Читать дальше
![Александр и Лев Шаргородские Министр любви [cборник рассказов] обложка книги](/books/187569/aleksandr-i-lev-shargorodskie-ministr-lyubvi-cborni-cover.webp)