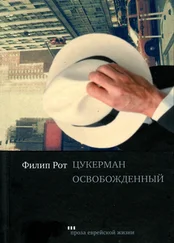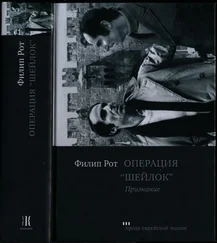А потом, в самом начале выпускного года, с оркестром было внезапно покончено. За две недели она дважды пропустила репетиции — проводила время у Элли Сауэрби, а мистеру Валерио объясняла (первая ложь за многие годы), что ей пришлось ухаживать за больной бабушкой. Он ей поверил, и между ними не осталось никакой натянутости — Люси по-прежнему оставалась „его надеждой“, как он говорил. И она по-прежнему волновалась, когда выходила на поле, командуя себе: „Левой-правой… левой… правой…“, и выбивая приглушенную маршевую дробь, пока они не выстраивались у средней линии и не начинали играть гимн. Ради этого мгновения Люси жила всю неделю, и дело тут было вовсе не в глупеньком школьном патриотизме и даже не в любви к родине, которой у нее не меньше и не больше, чем у любого другого. Звездный флаг развевался на ветру, и это было, действительно, впечатляющее зрелище, но по-настоящему она начинала волноваться, когда все вставали в едином порыве при первых звуках, разносившихся по полю. Уголком глаз она видела, как одна за другой обнажаются головы, и чувствовала, как барабан мягко бьет по ноге, и ощущала солнечное тепло на волосах, которые выбивались из-под черной шляпы с желтым плюмажем и серебряными галунами. Да, это было поистине великолепно — и так оно продолжалось вплоть до того самого дня, до той сентябрьской субботы, когда оркестр замер напротив трибуны, где все стояли в торжественном молчании, она крепко сжала отполированные палочки, а мистер Валерио забрался на складной стул, который для него всегда выносили на поле, поглядел на них и прошептал, улыбаясь: „Добрый день, музыканты“, — и тут, перед тем как он взмахнул дирижерской палочкой, она вдруг поняла (сама не зная отчего), что в оркестре объединенной средней школы города Либерти-Сентр всего четыре девушки: кларнетистка Ева Петерсон с бельмом на глазу, Мерлин Эллиот, хоть она и была сестра знаменитого Билла Эллиота, но сама она заикалась; новенькая горнистка, которой мистер Валерио очень гордился, — бедняжка Леола Крапп — такое чудное имя, да еще в свои четырнадцать лет она весила две сотни фунтов „без ничего“. И — Люси.
В понедельник она сказала мистеру Валерио, что у нее не хватает времени для занятий — вечером работа в Баре Дэйла, а днем репетиции. „Но ведь мы в полпятого заканчиваем…“ — „Все равно“, — ответила она, глядя в сторону. „В прошлом году это у вас как-то получалось, Люси. Вы закончили год с отличием“. — „Да, но… Мне очень жаль, мистер Валерио“. — „Люси, — начал он, — вы и Бобби Уитти моя единственная опора. Прямо не знаю, что и сказать… Как раз приближаются самые важные игры“. — „Я понимаю, мистер Валерио, но все же так будет лучше. Я все обдумала. Поступление в колледж тоже приближается, вы ведь знаете. Так что мне надо изо всех сил стараться получить стипендию. И еще мне надо зарабатывать в Молочном Баре. Если бы я могла обойтись, тогда конечно… Но я никак не могу“. — „Ну, — сказал он, опуская свои большие черные глаза, — не представляю, что теперь будет в группе ударных. Кому держать ритм? Боюсь даже подумать об этом“. — „Мне кажется, Бобби справится, мистер Валерио“, — неуверенно проговорила она. „Бобби, — вздохнул он. — Ну да ладно, я ведь тоже не Фриц Райнер. Видать, в школьном оркестре иначе и быть не может“. — „Мне, правда, очень жаль, мистер Валерио“. — „Да, не так уж часто на моем пути встречается мальчик или девочка, серьезно относящиеся к барабану. Даже самые лучшие просто колошматят почем зря. Да… Вы были моей надеждой, Люси“. — „Спасибо, мистер Валерио. Это для меня много значит. Очень много. Правда“. Затем она поставила на его стол коробку, в которую сложила форму. Шляпу с серебряными галунами и золотым плюмажем она держала в руке. „Мне, правда, очень жаль, мистер Валерио“. Он взял шляпу и положил ее рядом с коробкой. „А барабаны там, — сказала она, чувствуя мгновенную слабость, — в оркестрантской“.
Мистер Валерио сидел, пощелкивая пальцем по перу на ее шляпе. Ох, какой он прекрасный человек! Он был холост, слегка хромал, приехал к ним прямо по окончании музыкальной школы в Индианаполисе — и вся его жизнь заключалась в оркестре. А какое у него терпение, какая преданность делу… Смеялся он или печалился, но все равно никогда не злился, не придирался по мелочам, и вот теперь она оставляет его, оставляет по глупой, пустой, самой эгоистической причине… „До свидания, мистер Валерио. Я обязательно буду заходить, узнавать, как У вас идут дела. Не беспокойтесь!“
Читать дальше