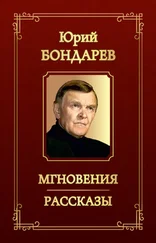Шарахнулись к двери, там образовалась свалка, Александр рванул узел напутанных на теле Эльдара веревок, но в эту секунду что-то жесткое и острое свистя ударило его в плечо невыносимой болью, к ногам упал железный прут, кинутый кем-то с рассчитанной силой.
Александр дернулся всем телом, повернулся набок, схватился рукой за плечо, заскрипел зубами — и очнулся от бреда. И, еще не окончательно придя в себя, понял, что он в поезде, лежит на нижней полке, что, ворочаясь, ударился предплечьем о стенку. Рану жгло каленым железом, голову сдавливала мутная тяжесть.
Гремели под полом колеса, перестукивали, скрипела скрежетали, покачивались стены. Водянистый воздух рассвета вползал в купе сквозь щели опущенной шторы.
«Что мне привиделось? Эльдар, которого они пытали, мама за столом с долькой мандарина у губ… Как ясно я все видел. Да, это банда Лесика. Все в каком-то безумии. Я болен. Эльдар видел улыбку на мертвых губах мамы: она отмучилась. Сначала отец, потом со мной… Улыбку на мертвых губах я видел на войне несколько раз — и это вызывало необъяснимое чувство перед какой-то тайной, которую унес убитый. Узнать бы ее мысли — нет, это уже в запредельных, запретных измерениях. Я не оправдал любви матери ко мне. Не смог стать ее защитой после смерти отца. Не оправдал».
Он лежал лицом вверх на полке, слышал похрапывание соседей, голоса которых прорывались ночью в его бред, краешком сознания помнил, что кто-то называл его душегубом, убийцей, и он опять думал о матери, и опять тоска и застывшие слезы заслоняли ему горло. Он знал, что все, что мучило его целую ночь видениями, ненавистью и жалостью, был тяжелый сон, близкий к беспамятству. Чтобы не застонать, не заговорить вслух, он прикусил губы изнутри и, пересиливая себя, поднялся, держась за стену. Его подташнивало. В купе спали, за шторой уже светлело утро. Лица спящих отливали нездоровой бледностью.
Он бесшумно открыл дверь, захлопнул ее без щелчка, пошел к тамбуру по качающемуся коридору, и от слез, горячо бегущих из глаз, все колебалось, плыло, распадалось перед глазами на какие-то стеклянно-зеркальные, лучистые осколки.
В туалете он сделал усилие, чтобы вытошнило, но ничего не получилось. С надрывом вырвало одной ядовитой желчью. Споласкивая лицо, он посмотрел на себя в зеркало и не узнал: это было смертно-белое, осунувшееся лицо, ненатурально ярко блестели глаза.
В тамбуре ходили железнодорожные, пахнущие углем сквозняки, утреннее теплеющее солнце раскачивалось на стенах, на металлической рукоятке стоп-крана с серой ниточкой пломбы; за пыльными стеклами дверей проходили платформы дачных поселков, тамбур наполнялся мимолетным шумом, справа и слева отсвечивали на солнце крыши домиков, прячась в листве садов: поезд шел в пригороде Москвы, по дачным местам. Александра бил озноб, стучали зубы, им все больше овладевало чувство безвыходности, и чем ближе была Москва, тем отчаяннее утрачивалась хрупкая зацепочка за смысл его приезда домой, в никуда, в пустоту, где не было матери, и его внезапно ослепило: пропал!
Нет, нет, Нинель, в Москве была Нинель. И, прислонясь спиной к скрипящей стене тамбура; он точно утонул в забытьи. Такого у него не было ни к одной женщине.
* * *
Откуда эти резные шкафчики с выдвижными ящиками, эти фотографии в кабинете ее отца? Как он оказался здесь? Как они познакомились? Мать не видела ее ни разу.
Что таилось в глубине ее зрачков, какие загадки Вселенной, какая запредельная, манящая счастливой гибелью бездна, какое чувство, невысказанное ею, — разве все это можно было передать ее губами, отдающимися его губам так робко и осторожно, что теплые потоки космоса уносили его в безбрежные звездные миры, невесомо опускали на землю, обогретую солнечным ветром?
Потом он лежал, прикрывшись одеялом до пояса. Она не поцеловала, она вздохнула ему в щеку.
— Ты любишь меня, разведчик?
В сладостном изнеможении не обдумывая слова, он ответил шутливо-уклончиво:
«Я знаком с тобой из моих снов. Больше, чем знаком. Япомню во сне твои прохладные груди, и губы, губы…»
Она, радостно блестя глазами, обняла его.
«Спасибо».
«Ты сказала „спасибо“?»
У нее наморщился нос. Ему снова показалось: ее глаза были наделены светом нежной искренности.
«Конечно. А что же еще, Саша?»
«Удивительно, — сказал Александр. — На войне я почти забывал свое имя. Знал только фамилию и звание».
«Умерьте грустный тон, лейтенант, — она нажала кончиком пальца ему в подбородок. — Я вас люблю, и это все. Я иду на Голгофу. Понимаете, лейтенант? На Голгофу».
Читать дальше