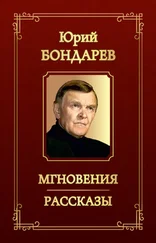Из зеленого сумрака пятном проявлялось пухлощекое сомовье лицо, в то же время лицо мальчика-старика, болезненно-зеленое, как бы в плесени, а белые порочные глаза жестоко наслаждались его страданиями, указывая туда, за стекло, где топили в бассейне мать.
«Не имею ли я чести видеть самого Лесика, отъявленную сволочь и труса? — сказал Александр безликим голосом, в спокойствии которого было что-то бесповоротно смертельное. — Как тебя — придушить? Или пристрелить?»
Неспешная скользкая ухмылка расширила и сомкнула рыбий рот.
«По окуркам твою группу крови определят. Свидетель там, где и преступник. Нет у тебя алиби, хоть шилом колись. И пушка твоя. Кроме тебя — ни у одного кирюшкинского лопуха пушки не было. Вычислили. А милиция… а лягаши… Они у меня сидят в кулаке. Все есть, пить хотят. У вас защиты — хрен наплакал. Кирюшкин — белоручка, брезгал дать лягашам в лапу. Айда, посмотришь на своего татарина, — поймали мы его, как бабочку сачком. Не боись, крови немного».
Он по-прежнему чувствовал в своем спокойствии что-то смертельное. Внезапно все стало тихо, бесплотно.
«Пошли, гаденыш».
«Пошли, храбрец».
Он ощупью толкнул дверь. В комнате, заполненной туманом, шла злая перебранка. Из темной толпы к нему в упор сунулось квадратное, дышащее сырым мясом лицо, налитое темной кровью, глаза горели раскаленными углями, немецкий мундир раздернут, железного вида курчавый смоляной волос покрывал до горла жирную грудь. «Раскрою! — заревел он по-бычьи. — Кишки на двенадцать метров выпущу и жрать заставлю!» Александр мимолетом бросил ему с тихим бешенством: «Удушу мизинцем. Укуси себя за немецкий пенис, сволочь недобитая». Вздымая волосатые руки, ищуще шевеля в воздухе толстыми пальцами, багроволицый взревел грозно: «Нож! Ритуальный нож!» Тут его кто-то отодвинул взглядом, и этот кто-то, столбообразный, в плаще, обволакивая сладостной улыбкой, обласкал Александра долгим пожатием влажной бескостной руки, ангельским, не мужским голосом: «Вы хотите найти голову змеи? А лучший способ мести африканца — насилие над белой. Есть ли пропасть между желанием и необходимостью?» Великолепный швейцар в серебрящейся галунами форме выражал изысканное почтение свинцовыми глазами. У него были учтивые манеры, он, грассируя, заговорил прочувствованно: «Я надерзил вам, извините, но сам я мертв. И не могу помочь. Вы тоже умрете. Посмотрите, где вы находитесь. Если человек смертен, жизнь бессмысленна. Если смерть бессмысленна, значит, человек бессмертен».
Оголенный до пояса человек сидел, привязанный к стулу, посреди толпы, не поднимая окровавленных вывернутых век, он тягуче стонал, длинные волосы спадали на плечи. Что у него с глазами? Вырезали? Кто-то выбежал из толпы, шатаясь на тонких паучьих ножках, и запричитал гадливо. Широкий пиджак обвисал на жиденьких плечах, торчали, как крылья летучей мыши, уши. Его залитый пеной узкогубый рот обнажал остроугольные зубы. Потом у Малышева мерзко затанцевало лицо. Бледно-голубые глаза вращались.
Или это был Лесик? Он надрывным криком кричал и плакал и резал финкой себе грудь. Где это было? Когда? Неукротимая злоба взвивала к потолку его вопль: «Мово дядю Степана угробили! Вот он — падла! Брюхо ему мало распороть и кирпич положить!» Он упал, искривленный в пояснице, на пол, захрипел, как в припадке. Толпа загудела звериными голосами. У него странным манером была вывернута нога. Выдавленные ненавистью белки его округлились в гнойных глазницах, и прозрачно посинели огромные острия торчащих ушей. Да кто это — Лесик? Или Малышев? Нет, Лесик… Пробуя подняться, он втыкал финку в пол, багровея сомовьим лицом, и исходил криком: «Пусть медленно подыхает! Кирпич ему врезать в живот! Он дядю Степана закопал, падла!» Все отсмеялись и притихли — прокатился звериный рев по толпе и смолк.
«Заткнись, мразь, — сказал Александр, не разжимая зубов, и повернулся, пошел через толпу к двери. Его шатало, он спотыкался, продвигаясь по комнате мимо злорадно оскаленных из-под немецких каскеток лиц. — Откуда здесь немецкая сволочь? — подумал он. — Лесик собрал палачей? Или это русские?»
Он не дошел до двери, остановился и, чтобы не упасть, уперся коленями в подоконник, холодный, как могильная плита. Это была передышка. Непомерность физической слабости не держала его на ногах. Множество плотоядных чужих глаз ножами воткнулись ему в спину. Позади угрожающе шумели, сговаривались, как убить его, а его стискивала гибельная тишина пустоты с выкаченным воздухом. И стало казаться, что он летит в черный провал впереди. И уже ясно было видно: внизу стояли, поджидая его, люди, растерзанные, голые, безликие, те, которых топили в бассейне. И далекие трубные туманные крики в поднебесье, какие он слышал в сорок третьем году на Днепре осенними ночами, тоской перехватывали ему грудь: неужели вот эти в комнате прикончат его?
Читать дальше