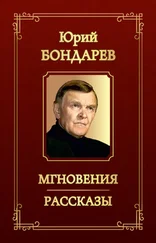— Вмешаюсь в ваш разговор. Есть такой Айзек Азимов, американский писатель, настругал триста книг. Ай да молодец! Ай да энергия! Феномен! И что он в интервью заявляет: «Для меня творчество — это радость, не составляющая труда». Каково! Флобер! Представляете, что за стиль у этого графомана!
— Знаете? У двери глухого пел немой, а слепой на него смотрел с хитрецой.
— Что сие значит?
— Все мы произошли из одного корня — и человек, и обезьяна, и птица, и рыба, и крыса. Наша колыбель — природа. Но как все родилось, произошло, развивалось, менялось, совершенствовалось? Как американец стал американцем, а русский русским?
— Мы не знаем, почему человек чихает, а вы хотите это…
— Так что? Ха-ха! Что дала наша наука миру?
— Пожалуйста. Готовность ко всякому повороту судьбы. Так кто же будет теперь господствовать над нами — Чернышов или Дроздов?
Кивая знакомым, здороваясь глазами, он шел сквозь хаотично перемешанные голоса гостей, заполнявших большую квартиру Чернышова, останавливался, смотрел по сторонам, отыскивая Валерию, чтобы «пообщаться» с ней и надолго не вступать в другие разговоры, обдающие его то теплыми, то холодными, то колючими волнами. Фраза, услышанная им и почему-то повторенная про себя: «готовность ко всякому повороту судьбы», заставила его насторожиться невольно.
Его все-таки занимала начатая кулуарная суета вокруг освобожденной должности директора НИИ, заметное волнение коллег, связанное с банальной мудростью: свято место пусто не бывает. На это место претендовал Чернышов. Но Дроздова занимало уже совершившееся в кулуарах института и собственное назначение, будто бы подтвержденное в «Большом доме» и академии, занимало перемывание коллегами косточек, подробный разбор служебных достоинств (талант или видимость?), личных характерных качеств (тигр или кошка?), частной жизни (пьет, не пьет, ходок, не ходок?), то есть небеспристрастный учет всего, что в подобных случаях дает пищу разнокалиберным слухам, сплетням, сочувствию доброжелателей и неизбежному злословию недругов. Дроздов, внешне не проявляя даже иронического интереса к пересудам и преувеличениям, знал и то, что в коридорах трепали его биографию, опять все соединяя с покойной Юлией, с его женитьбой, якобы выгодной, рассчитанной на удобную жизнь, на обеспеченную карьеру с помощью тестя. Эти шепоты бессмысленно было опровергать, так как он не сомневался, что всякая клевета или осмысленная недоброжелательность не признает доказательств, какими бы ни были они.
Прошла неделя после похорон, повседневность входила в свою колею. А тот день, когда Дроздов увидел фотографию звездного неба в кабинете академика, и тот незабытый разговор осенним вечером, его предсмертное письмо, вернее — записка, несмотря на их прохладные отношения, оставленная ему вместе с желтой папкой, где были собраны Тарутиным документы о проекте Чилимской ГЭС, не использованные и не посланные «наверх», — все приоткрывало в жизни Федора Алексеевича многое, в то же время затуманивало основное. Чем он жил в последние годы, в сущности, одинокий, больной, но еще упорно цепляющийся за земное существование, за место в науке, еще не чуждый тщеславия, что крайне удивляло Дроздова, не соглашавшегося, что старости вдвойне свойствен этот наиболее распространенный человеческий недуг?
Предсмертная записка, неожиданная до ошеломления («Почему он написал ее мне, липовому родственнику?»), не выходила из головы, угнетая покаянным малодушием, запоздалой, уже бездейственной искренностью человека, уходившего из жизни с осознанием вины. И уставая от неумения прощать самому себе, Дроздов то и дело подсознательно повторял врезавшиеся в память одни и те же фразы, написанные на очень белом листе бумаги тонким, скошенным вправо мелким почерком, напоминающим женственную арабскую вязь:
«Дорогой Игорь Мстиславович! Страшно это, не правда ли? Смерть… Но я устал бороться не с болезнью, не со смертью, с самим собою. Я устал смертельно. Федор Григорьев».
После злой досады на Чернышева в день похорон Дроздов уходил от деловых встреч с ним в институте, но, сталкиваясь по утрам в приемной — двери их кабинетов были напротив, замечал на румяном его лице подчеркнутый знак печали: веки скорбно опускались, прикрывая покорные глаза, он со стоном вздыхал толстоватым носом, как если бы дал обет незапамятно пребывать в трауре. Ему, первому заместителю, по стечению горестных обстоятельств пришлось временно взять на себя обязанности директора института. И порой Георгий Евгеньевич имел вид несчастной жертвы, истекающей потом совести. В приливе чувств он как-то сказал, что, будучи в аспирантах, был соблазнен на всю жизнь любовью к науке благодаря доброте и отзывчивости великого академика, именно великого, поэтому малейшая измена истине учителя равносильна для него, скромного ученика, гибельному самоуничтожению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу