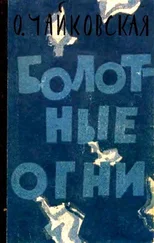Во имя справедливости учительница, которая забыла алгебру, должна была бы понять, что это именно она виновата в конфликте, и с возможным тактом признать свою ошибку (тогда и родителям легче было бы поддерживать ее авторитет). Именно во имя справедливости мать должна вставать на защиту своего ребенка — повторю, не против учительницы, а во имя справедливости,— такую позицию поняли бы все, и взрослые, и дети. Но если ребенок чувствует, что против него сплоченный союз взрослых — союз во что бы то ни стало, независимо от справедливости и даже вопреки ей,— он может ответить на это самым неожиданным образом. Потеряет уважение и доверие к взрослым (даже к взрослым вообще), замкнется, затаится, порвутся тогда с ним все связи; может ответить и каким-нибудь отчаянным взрывом, погибельным — и такие случаи бывали, когда дети, окруженные враждебным кольцом, лишенные поддержки, решались на отчаянный шаг. Надо помнить, что сознание ребенка от природы сужено и легко может затянуться смертельной петлей.
Там, где родители имеют дело с умным, тонким, сердечным педагогом, единство авторитета возникает само собой. Ну, а что им делать, если судьба на несчастье нанесла их на властную, деспотичную учительницу, которая, кстати, с родительским авторитетом как раз и не считается? Иные отцы и матери в тревоге, в страхе (ведь от нее зависят отметки в аттестате и характеристика!) начинают заискивать (и даже, увы, бывает так, что и задаривать); поспешно вступают в родительский комитет, не для того, чтобы помочь школе, которая так- остро нуждается в помощи, но для того, чтобы заключить с учительницей еще более тесный союз. Другие, не выдержав, вступают в борьбу, жалуются директору или в роно, стараясь, однако, чтобы об этом не узнали дети. Родители Аннушки избрали прямой путь: сказали девочке, что учительница не права в своих математических утверждениях и несправедлива по отношению к ней, Аннушке, а следовательно, и поддаваться ей не нужно. И Аннушка не сдавалась.
Нелегка стала ее жизнь — как ей, маленькой, было устоять в борьбе с опытной взрослой и властной женщиной. Двойки на беднягу так и сыпались, замечания и выговоры перед всем классом следовали один за другим. Аннушка глотала слезы, но ошибок своих не признавала. Конечно, родители пытались связаться с директором, добиться его помощи, но в конце концов взяли девочку из школы. Этот путь — сопротивления — был более достойным, чем то жалкое родительское подобострастие и заискивание, которое тем более опасно, что дети могут перенять его у взрослых. И уж во всяком случае девочка не чувствовала себя одинокой в этой борьбе — родители ее не предали. Но все же сам эксперимент был опасен — непосильностью такой борьбы. Для детской нервной системы.
Видите, мы наугад взяли два вопроса, казалось бы, сравнительно несложных и ясных,— о материнской любви и авторитете взрослых — и тотчас оказались в гуще противоречий, а непреложные постулаты при ближайшем рассмотрении потеряли свою непреложность. Но ведь противоречия начинаются в семье с первого ее шага и как бы заложены внеес самого ее начала.
Семью основывают двое, полюбившие друг друга,— бывают, конечно, отклонения, особенно когда речь идет о поздних возрастах, где разного рода соображения и расчеты играют большую роль, но в подавляющем большинстве своем браки основаны на влюбленности. И сразу же возникает роковой вопрос: полюбили они друг друга или только влюблены, вопрос, на который никто никогда ответить не может, потому что влюбленные сами этого не знают.
Влюбленность — состояние удивительное, это великолепная вывихнутость из обычного самоощущения, поразительное беспамятство, которое обостряет зрение, слух и ум; некий свет, заново озаряющий жизнь, огонь, которым один от другого непрестанно зажигаются, от которого расцветают дарования; ярче становятся люди, тоньше, богаче, а их неизвестно откуда взявшаяся способность мгновенного взаимопонимания, сверхпонимания уже граничит с телепатией, невероятностью, чудом.
Помните объяснение в любви Левина и Кити? Что помогало девушке мгновенно понимать значение слов, которые Левин обозначил одними лишь первыми буквами? А ведь в основе этой сцены лежит подлинное объяснение Толстого с его будущей женой, их разговор, еще более странный и с позиций обычной жизни вовсе не объяснимый, потому что юная Софья Андреевна (она сама рассказала об этом в главе своих воспоминаний «Что писал мелок») читала текст, несравненно более сложный, чем тот, который читала Кити. Вот эта поразительная сцена.
Читать дальше
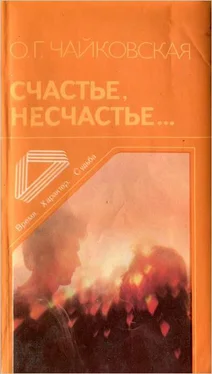

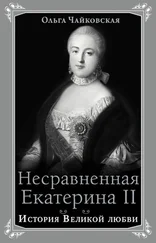
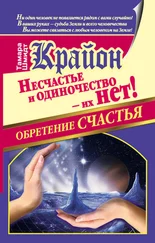
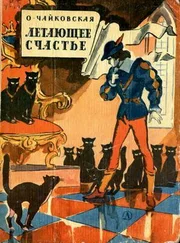
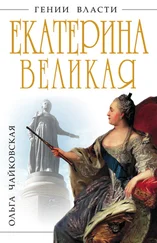
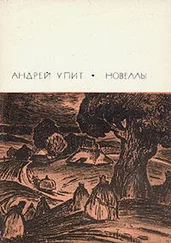
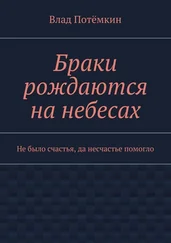
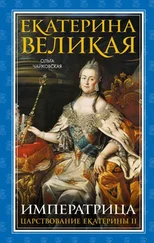
![Ольга Чайковская - Болотные огни [Роман]](/books/424278/olga-chajkovskaya-bolotnye-ogni-roman-thumb.webp)