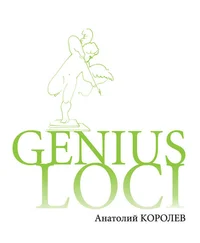Адам усадил голубое облачко — девочку в стрекозином платьице — на плечи, девочка продолжала молчать, и, немного пошатываясь, пошел в сторону от железной дороги, круто вверх по травяному откосу. Девочка послушно уложила на его голове свои фарфоровые ручки, она была легка, чиста, спокойна, безмятежна, а ведь еще минуту назад ее глаза были в слезах. На гребне откоса Адам не стал оглядываться на осколки ночного кошмара: смерть, огонь. Крутизна продлилась, и вскоре они вошли под сень лесополосы. Близко посаженный ельник разом погасил людские крики, плач, одинокий визг. Крутой подъем нескончаем. Стараясь, чтобы ветки не царапнули лилейное личико, Адам шел мягким осторожным шагом, петляя по расщелинам света среди зеленых стен хвои. Когда подъем кончился, ельник разом поредел и угрюмо отстал, уступая права широколистным дубравам, которые привольными холмами зелени брели по широкому долгому склону на острый блеск не далекого, но и не близкого озерка в мягкой низине, за которой земля опять набирала разбег в высоту и уходила тугим приливом Далеких дубрав, лугов, цветочных террас, кипящих солнцем водных излучин к горизонту, где, окончательно набрав высоты, панорама взлетала в небо гористым языком снеговых призрачных Альп, сияющих из исторической дали с такой пронзительностью, что нельзя было без волнения и не пригасив взгляд ресницами смотреть на ледяные откосы горной громады, заоблачные ступени снега, неясные травяные пятна альпийских лугов. И хотя гористая панорама тонула в сухом блеске рапирных лучей жаркого дня — сам ее вид дышал холодом и немного леднил душу.
В полном молчании они вступили сначала по пояс не в саму дубраву, а в царство цветущих кустов: льстящийся к дубам орешник, укрыватель коноплянок бересклет, любовница соловьев — пенистая жимолость и девственный шиповник, озаренный нежным заревом сумеречных розочек, на чьи блеклые лепестки уже с нажимом легла закатная узкая тень фиолета. Тесное царство оплетено тишайшими граммофончиками и юрким мышиным горошком. Услышав поступь адама, кусты разом прянули глотками мелких летних пичуг, стряхнули жидкие зеркала амальгам, сдувая — щелком и писканьем — брызги поющей ртути: квазипиццикато флейты, птичьи рывочки струнных смычков, оранжево-сладкие тутти и синевато-дымные соло плюс темы пернатых рыданий — мольба, пересмешки луны, благоговение клювиков в пальцах Спасителя, упование на красоту общей песни с цветочными чашами. От лепета и посвиста птиц готово разрыдаться сердце: ведь в человеческом смысле они не живут, а спят, не знают, не ведают, не существуют, не видят себя, не отдают отчета, не отступают от края касания бытия и намертво слиты со смертью вещей, а значит — не смертны; для них нет ни перьев, ни брюшка, ни клюва, ни лапок, ни кустов, ни вселенной, пичуги только пестрят и — все-таки! — даже там, в самой смертоносной бездне небытия, не отличаясь практически ничем от черноты ничто, они дружно славят само обещание быть, славят всего лишь запахи существования, летящие на слепые глаза, зреющие на бедном лице из перьев.
Миновав дельту звучания птиц, Адам с голубым облачком на плечах вступил в сень неширокой дубравы и, миновав равномерную череду светлых и темных пятен зеленоватого солнца и легкого мрака и невесомой неспелой черноты, они — чуть спеша — вышли на луг, косо уходящий вниз, к уже близкому озерцу. И! И разом с головой вошли во весь роет в трепещущий безмолвный геометрический шар из порхающих на равном отдалении от центра окружности бабочек, и шар тот тихо катился по самым кончикам травы наискосок через луг, от края оставленной позади дубравы до одинокого куста отшельной лещины, где сфера из бабочек распалась так же мгновенно, как и возникла.
Геометрия лугового откоса прерывалась горизонталью воды. Здесь, на берегу лесного озера, можно наконец перевести дух. Адам снял девочку с плеч и подробно оглядел ее с головы до ног. Кукла предстала в полном порядке — ни одной ранки, ни малейшей царапины. Но она по-прежнему хранила молчание.
Водоем на их пути был довольно обширен, а прохлада его — благодатна. Вблизи берега, на мелководье, тихая вода укрыта плоской жесткой мелочью ярко-зеленой ряски. И каждый овал изумрудной жести увенчан мокрым изнеженным звуком мелкого плеска. Дальше и глубже глаз различал в воде подводные русла голых элодей и узкорылого рдеста, а еще дальше водная озерная рябь была прихлопнута темно-зелеными зеркальцами кувшинных листьев; кое-где полузатопленный панцирь розеток был украшен расколотым льдом раскрытых кувшинок. И вся эта муарово-мокрая ткань воды, отраженная пылом рефлексов в близкий воздух, была наэлектризована бесчисленным голубым помаргиванием лазоревых стрекоз, рассмотреть которых глазу было невозможно, а успевалось только поймать вибрирующий след лазури, зигзаги лучевых дымков: от гладких сердечек водокраса — к симметричным ноготкам сальвинии и — звиг — на лезвие стрелолиста: голубые вспышки стрекозиной слюды над неопалимой водой. И ни капли свежей крови на всем пространстве блаженства, ни мазка сажи, ни одной слезинки… Вся сердцевина озера поднималась над уровнем воды родом жидкой хрусталеобразной маски, переливчатым женским лицом наяды, слепо глядящей в небо. Лицо было огромно и беззвучно, если не брать за звук переплеск струй на зеркальном лбу или бесшумные водовороты на месте глаз, чья слепота глядела чашами мокро-желтых кубышек. На том месте, где пенился рот мистической наяды, из глубины озера поднимался причудливый меловой утес, похожий на ножку каменного гриба, украшенного сверху скошенной шляпкой; если ножка утеса была сложена из наклонных глыб известняка, то навершие являло собой глыбу снежного мрамора. И там, среди рафинадных зияний пещер и молочных голов сахара, на крохотной ровной площадке был хорошо виден монах. Истовая поза не оставляла сомнений — монах молился, а одежда — род балахона бенедиктинца с откинутым капюшоном и вервием на пояснице, — что Адам вступил скорее под сень кафолических видений в духе Хильдегарды Бингенской, чем тихих грез Нила Сорского. Распростертое тело монаха было связано с небом тончайшим алмазным лучом света. Начинаясь от стиснутых перед лицом рук, стеклянистая нить экстаза уходила вверх и одновременно вдаль — к лесному массиву на горизонте, где громоздилась ледяная гора Мольбы, туда, где над откосами льда, кручами глетчеров и челюстями пропастей в сизых небесах страстно распахивалось матовое марево иных далей и где луч молитвы, наконец, таял, сливаясь с золотыми миражами райской бездны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу