Но главными нашими друзьями были крысы, жившие за ручьем. Длинные такие, черные. Мы приносили им такие яства с нашего стола, как сырные корки и вкусные хрящики, еще мы притаскивали им птичьи яйца, лягушек и птенцов. Восприимчивые к этим знакам внимания, они сновали вокруг при нашем появлении, выказывая доверие и признательность, взбирались по нашим штанинам и повисали на груди. Тогда мы усаживались посреди них и скармливали им с рук славную жирную лягушку или дрозденка. Или же, внезапно схватив упитанного крысеныша, отдыхавшего после трапезы у нас на животе, мы отдавали его на растерзание его же мамаше, или папаше, или братцу, или сестрице, или еще какому-нибудь менее удачливому родственничку.
Именно в таких случаях, решили мы после обмена мнениями, мы становились ближе к Богу.
Если Уотт говорил, то голосом тихим и быстрым. Вне всяких сомнений, звучали, будут звучать голоса более тихие, более быстрые, чем голос Уотта. Но чтобы из человеческого рта когда-либо исходил, будь то в прошлом или будущем, разве только в бреду или во время мессы, голос одновременно столь быстрый и столь тихий, поверить трудно. Также в разговоре Уотт пренебрежительней, чем это общепринято, относился к грамматике, синтаксису, произношению, дикции и, весьма вероятно, если бы правда была известна, к написанию тоже. Впрочем, такие имена собственные мест и людей, как Нотт, Христос, Гоморра, Корк, он выговаривал крайне тщательно, и в речи его они появлялись пальмами, атоллами, с долгими паузами, поскольку он редко уточнял, в весьма оригинальной манере. Забота о композиции, неуверенность по поводу продолжения, сама необходимость продолжения, неотделимые даже от самых счастливых наших импровизаций и коих не лишены ни птичьи трели, ни даже звериные крики, тут явно места не имели. Уотт говорил словно бы под диктовку или декламируя, наподобие попугая, текст, ставший знакомым после многочисленных повторений. Многое из этого стремительного шепота пропадало втуне по причине несовершенства моего слуха и понимания, многое уносилось прочь бушующим ветром и терялось навсегда.
Этот сад был окружен высокой изгородью из колючей проволоки, весьма нуждавшейся в починке, в новой проволоке, в свежих колючках. За этой изгородью, там где она не заросла шиповником и гигантской крапивой, со всех сторон отчетливо виднелись схожие сады, схожим образом огражденные, каждый со своим корпусом. То сходясь, то расходясь, изгороди эти являли собой весьма нерегулярный контур. Изгороди нигде не были общими. Но расстояние между ними в некоторых местах было таково, что широкоплечий или широкозадый мужчина, пробирающийся этими узкими проходами, сделал бы это с большей легкостью и с меньшим риском для своего пальто и, возможно, штанов, двигаясь боком, а не передом. Для мужчины же толстожопого, напротив, или толстопузого совершенно необходимо было двигаться прямо, если он не хотел, чтобы его живот, или задница, или, возможно, все вместе было проткнуто ржавой колючкой или ржавыми колючками. Толстожопая и грудастая женщина, например разжиревшая кормилица, была бы вынуждена поступить точно так же. А вот люди одновременно широкоплечие и толстопузые, или широкозадые и толстожопые, или широкозадые и толстопузые, или широкоплечие и толстожопые, или грудастые и широкоплечие, или грудастые и широкозадые ни в коем случае, если они пребывали в здравом уме, не должны были обрекать себя на этот вероломный лабиринт, но развернуться и вспять направить свой шаг, если им не хотелось оказаться проткнутыми в нескольких местах одновременно и, возможно, до смерти истечь кровью, или быть заживо сожранными крысами, или умереть от истощения задолго до того, как услышат их крики и еще более задолго до того, как появятся спасатели, мчащиеся с ножницами, бренди и йодом. Поскольку, не будь их крики услышаны, возможность их спасения была бы невелика, столь обширны и столь пустынны бывали обычно эти сады.
После перевода Уотта прошло некоторое время, прежде чем мы снова встретились. Я как обычно, то есть поддавшись зову погоды, бывшей мне по нраву, прогуливался по своему саду, а Уотт точно так же прогуливался по своему. Но поскольку это был уже не один и тот же сад, мы не встретились. Когда же наконец мы снова встретились нижеописанным образом, то нам обоим, мне, Уотту, стало ясно, что мы встретились бы много раньше, если бы захотели. Но желание встречаться отсутствовало. Уотт не желал встречаться со мной, я не желал встречаться с Уоттом. Дело вовсе не в том, что мы противились встрече, возобновлению наших прогулок, наших разговоров, как раньше, просто желание это не ощущалось ни Уоттом, ни мной.
Читать дальше
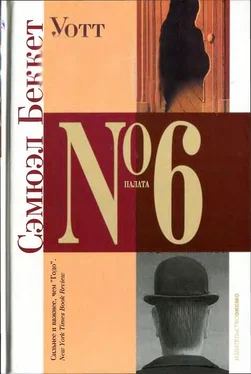

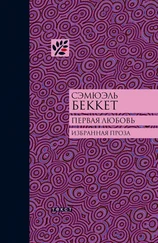

![Сэмюэль Беккет - Счастливые дни [другой перевод]](/books/98045/semyuel-bekket-schastlivye-dni-drugoj-perevod-thumb.webp)
