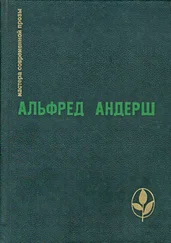Этой концовкой дело не кончилось. Со мной всегда так: некоторыми замыслами, которые поначалу меня захватывают, я не могу заниматься планомерно. Они от меня ускользают. Не знаю, куда они деваются; но если они в самом деле важны, они потом снова и снова всплывают, таким образом я ими и «занимаюсь». Для них это что-то вроде испытания огнем. Если они больше не приходят мне в голову, значит, они уже выбракованы и вообще ничего не стоили. Помимо политики, я в 1920 году — не знаю, что меня к этому подтолкнуло — еще несколько месяцев занимался биологией, о которой не вспоминал уже много лет, и вообще всякими естественнонаучными проблемами. Принюхивался то там, то тут. Делал выписки о муравьях и их удивительных грибных плантациях, о разных астрономических и геологических феноменах. Куда это меня заведет, я не знал. Примечание в одной исторической книге [10] W. Bernhardi. Konrad III., Teil I (1138–1145), Leipzig 1883, hier S. 553f. История аббатисы Юдит легла в основу пьесы Дёблина «Кемнадские монахини».
об аббатиссе Юдит из Кемнаде на несколько месяцев завлекло меня в совсем иную сферу. Но камешки с Балтийского моря меня чем-то тронули. Впервые в жизни, в самом деле впервые, я возвращался в Берлин с неуверенностью, даже с неудовольствием — в этот город, полный домов, машин, человеческих масс, к которым я всегда был привязан, очень сильно привязан.
Я с детства был горожанином, жителем большого города; в пятнадцать лет, на загородном пикнике, я впервые увидел вишневое дерево. Чтобы я вдруг задумался о животных, о земле… — это казалось мне смехотворными романтическими бреднями, дурацким разбазариванием времени. Прусскую сухость, деловитость, трезвый взгляд на вещи, трудолюбие — все эти качества мне привили в берлинской гимназии. Я еще помню, как у меня дух захватывало от радости, когда в Берлине прокладывали первые рельсы для электрических поездов [11] Прокладка рельс для надземных и подземных электрических поездов началась в 1896 г. (открытие соответствующих маршрутов состоялось в 1902-м).
и как я, вызывая насмешки товарищей, раз шесть с неподдельным восторгом посетил оперный театр Кролля [12] Этот ныне не существующий театр находился в Тиргартене, напротив Рейхстага.
— не ради самого представления, но чтобы через окошко рядом со входом заглянуть в подвальное помещение, где стояла машина, которая, хоть я и не понимал ее устройства, неодолимо притягивала меня. Я до недавнего времени относился к природе с предубеждением, часто об этом говорил и даже писал. Меня и сегодня раздражает, когда люди специально выискивают красивые — в эстетическом смысле — ландшафты. Мне жаль человека, который, рассматривая группу облаков, не видит в ней ничего, кроме красивых оттенков цвета. Мир существует не затем, чтобы на него глазели. Восприятие молоденькой барышни не есть мера всех вещей.
Но потом — после войны, как я уже говорил, — на меня что-то накатило. Началось это с нелогичной концовки «Валленштейна». С камешков из Ареидзее. Меня вдруг проняло. Аскетизм прусской выучки схлынул. Или преобразился. Я плакал, упиваясь счастьем слез… Я возвращен земле [13] Цитата из монолога Фауста в первой сцене трагедии, «Ночь». (Перевод Б. Пастернака.)
.
Я написал несколько очерков о природе: «Вода», «Природа и ее души», «Будда и природа». Хотел напечатать их вместе в виде брошюры, но не сделал этого, не получилось [14] Позже Дёблин все-таки опубликовал эти эссе, дополнив другими, как брошюру «Я над природой» (1927).
. Лейтмотивом тогдашних моих представлений было: «Я… есмь… ничто».
Я воспринимал природу как тайну. А физические ее характеристики — как нечто поверхностное, нуждающееся в истолковании. Я замечал, что не только я сам не имею никакой установки по отношению к природе, но и другие, коим несть числа. Совсем по-иному, в растерянности, смотрел я теперь на учебники, прежде всегда внушавшие мне уважение. Я искал в них ответы, но не находил ничего. Они ничего не знали о тайне. Я же каждодневно видел и переживал природу как мировую сущность, то есть: как тяжесть, разноцветье, свет, тьму, многочисленные субстанции, как целокупность процессов, бесшумно перекрещивающихся и накладывающихся друг на друга. Со мной случалось иногда, что я сидел за чашкой кофе и не мог объяснить себе, что здесь происходит: белый сахарный песок исчезал в коричневой жидкости, растворялся. Да, как такое возможно: «растворение»? Что Жидкое-Текучее-Теплое может сделать Твердому, чтобы это Твердое поддалось, приспособилось? Помню, мне от такого часто становилось страшно — физически страшно, до головокружения; и, признаюсь, еще и сегодня, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным, мне порой делается не по себе.
Читать дальше