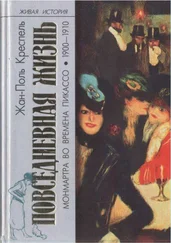В конце концов, от моей веры я никогда не отказывался. Хотите услышать признание, mon cher! Я, самый несерьезный из всех людей, время от времени тайком заходил в какую-нибудь неприметную церковку, чтобы поставить Господу нашему одинокую свечу. Пожалуй, в то время я не вполне понимал, что делаю. Да, собственно, и не думал об этом. Но Бог понимал все. У ваших соотечественников есть чудесная поговорка: «Бог правду видит, да не сразу скажет». Вот и мне Он сказал ее не сразу — но все же сказал. Это произошло на званом обеде в доме Жака Маритена, изысканнейшего из философов-томистов. В тот вечер среди гостей был человек, который всего несколько часов назад вернулся в Париж из миссии, проповедовавшей бедуинам. Он вполне мог быть и ангелом, посланным к нам Господом. Услышав его рассказ об Аравии, я словно получил мощный удар в лицо. «Поплыл», как выражаются боксеры. Та комната, книги, друзья — все это перестало существовать для меня. Я был уловлен. Да, друг мой, это правда. Тот священник потряс меня так же, как потрясали Стравинский и Пикассо. Три дня спустя я исповедовался и причастился в личной церкви Маритена в Мёдоне.
Я слушал Кокто, и меня пробирала странная дрожь. В храме я не был уже несколько лет — только один раз заглянул в собор Святого Северина, да и то чтобы полюбоваться его архитектурой. Давние посещения мною церквей — в те ужасные ялтинские дни — отождествлялись у меня с трусостью, с ползучим животным страхом неминуемой гибели, которого я не испытывал уже довольно долгое время. После того как я обосновался в Европе, душа моя обросла жирком и разленилась. Уже не один год я позволял себе полностью пренебрегать ее состоянием. И теперь, вглядываясь в нее, не питал никакой уверенности, что увиденное мне нравится.
— Вы и представить себе не можете, что сделала со мной смерть Рад иго, — продолжал Кокто, которого я, погруженный в мои мысли, слушал вполуха. — Одинокий, наполовину обезумевший, я понимал в те недели и месяцы, что мне следует воздеть руки к небесам и попросить о помощи, но просто не мог сделать это. И потому искал забвения в искусственном раю Бодлера [104] Отсылка к сборнику статей Шарля Бодлера «Искусственный рай» (1860), посвященных опыту курильщика опиума.
. Это так мучительно, мучительно, быть неверующим обладателем глубоко религиозной души. И кстати, о мучительном — какое, наконец-то, упоительное высвобождение, какое… Ну вот…
Последнее относилось уже к последствиям взаимного содрогания, до которого он довел нас обоих.
— Мы тут с вами немного напачкали, не так ли? И все же наш недолгий разговор мне понравился. Я буду еще не раз вспоминать о нем. Надеюсь, и вы тоже.
Несколько позже я проскользнул в постель, к мирно похрапывавшему Уэлдону. И мне приснился, чего не случалось уже многие годы, Бог. Во сне Он пригласил меня в Свой обшитый деревянными панелями кабинет и показал мне некую схему. На Михаила Фокина Он больше не походил, — собственно, лица Его я в моем сне толком не разглядел. Военную форму отца заменил сливового цвета смокинг. Письменный стол заместился карточным, и по нему были разложены — совсем как кусочки маминой складной картинки — похожие на карты Таро изображения, соединенные замысловато расцвеченными нитями. Изображения эти были, вообще говоря, маленькими фильмами, то и дело менявшимися сценами, которые мне не удалось, как ни понукал Он меня, увидеть ясно. «Судьба», — промолвил Бог и коснулся схемы пальцем, и картинки изменились — но какая сменила какую, в точности? Понять это я не смог, как ни старался. «Провидение», — сказал Он и снова притронулся к схеме, и та снова переменилась. «Свободная воля», — произнес Он.
У меня сложилось впечатление, что моя неспособность увидеть все самостоятельно начинала понемногу выводить Его из терпения.
Месяц, который мы провели на прекрасном юге, подошел к концу. В ночь перед отъездом я решил заглянуть к Кокто, чтобы поблагодарить его за дарованное нам солнце и море. И, когда подошел к двери его номера, меня остановил запах, названный Пикассо наименее идиотическим в мире.
Я поколебался, однако желание как следует попрощаться с моим другом оказалось сильнее мысли о неудобстве, которое я испытаю, застав его предавшимся прежнему пороку, и я постучал.
— Входите всенепременно, — донеслось из номера.
Открыв дверь, я увидел на кровати, в тусклом свете лампы, на абажур которой был наброшен шелковый носовой платок, полулежавшего, опершись на локоть, Кокто, а рядом с ним — в такой же позе — Жана Бургуэнта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу