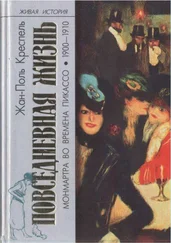На какой-то миг меня посещает мысль, что его держат в карантине — homme fatal , наконец-то изловленного властями. На самом деле он сам пришел в лечебницу ради избавления от опиумной зависимости, что подразумевает, если верить получаемым мной время от времени запискам Кокто, режим самый зверский: прочистка организма, прием слабительных, клизмы — все это оплачивается незаменимой Коко Шанель.
— Но как вы себя чувствуете? — кричит Уэлдон.
Кокто прикладывает левую ладонь к уху, продолжая помахивать правой.
— Как вы? — повторяет Уэлдон, отвечая на жест Кокто своим — прикладывая ладони ко рту, точно рупор.
— Чудесно! — отвечает Кокто. — Ко мне возвращается память. Мне уже удается вспоминать… номера телефонов. И кусочки стихов, которые я считал навсегда мной утраченными. А ночами ко мне прилетает ангел и, пока я сплю, сидит у меня на груди, хоть здешние сестры и утверждают, что этого быть не может. Но что они понимают? Он касается моих губ пальцами — оперенными, совсем как крылья птицы.
Рядом с ним появляется медицинская сестра.
— Мсье Кокто, — говорит она, — вы беспокоите других пациентов. Полагаю, вам следует вернуться в постель. Вы должны отдыхать.
— Силы мои крепнут, — говорит он нам — а заодно и сестре. — И вся моя сексуальная энергия возвратилась ко мне. Я потею, я писаю, я извергаю семя. Это чудо.
Вид у сестры становится положительно жалким. К ней присоединяется еще одна, не менее грозная. Они крепко берут Кокто за руки.
— Adieu, mes amis, — восклицает он, как уводимое в постель дитя. — Adieu, adieu.
И скрывается из глаз. Мы остаемся стоять на месте, смотрим на опустевшее окно.
Внезапно оно приоткрывается, чуть-чуть, и из него вылетает неказистый бумажный самолетик. Ветерок ловит его и удерживает, пока самолетик не приземляется почти у наших ног. Развернув его, мы видим, что сложен он из страницы блокнота и содержит жутковатый рисунок: Кокто, с вылезшими из глазниц, покачивающимися на длинных стеблях глазами, с пальцами, обратившимися в такие же стебли, и телом, преобразующимся в гротескный букет опиумных трубок.
Собственную его старинную трубку и лампу он, перебираясь в лечебницу, передал мне, и, пока я разглядывал страшный рисунок, некая часть меня жаждала покинуть чудесный солнечный свет и затвориться в моей жалкой комнате на рю Сен-Жак. Вот уж не думал, что с такой готовностью уступлю соблазнам наркотика. Я успокаивал себя тем, что мое пристрастие к нему проявляется не с той регулярностью, какая позволила бы и вправду назвать его пристрастием, — скорее уж попустительством, временным избавлением от скуки каждодневных переходов, приближающих меня к настоящему забвению.
Опиум был единственной причиной наших с Уэлдоном редких ссор. Собственно говоря, я подозревал, что он и привел-то меня к «Городской водолечебнице» для того, чтобы я поосновательнее внял страшному, уродливому видению, которое Кокто изобразил на том листке нам в науку. И меня поразила вдруг мысль, что моя потребность в опиуме есть лишь пародия иных моих потребностей: страсти к балету, жажды обладания старинными книгами, горячечных поисков любви, которая всякий раз оказывается злополучной. Взять того же Уэлдона: что я любил в нем? Обличие, оболочку. Чего, в конечном счете, желал от него? Да и от любого из них? Я все чаще и чаще ломал голову над этим вопросом.
Пообедав в «Closerie des Lilas » [100] Букв. «Хуторок сирени» (фр.) — знаменитое, облюбованное богемой кафе на бульваре Монпарнас.
, мы простились на углу бульваров Монпарнас и Сен-Мишель. Очень неприятно признаваться в этом, но я оставался с Уэлдоном отчасти и потому, что он с удовольствием водил меня по таким ресторанам, а я уже устал «обедать носом».
Когда я возвратился домой, консьержка вручила мне письмо из Праги — от мамы.
«Мой драгоценный Сережа!
Возможно, до тебя уже дошла берлинская новость, хотя, зная твоего брата, я подозреваю, что он не потрудился сообщить ее тебе: Володя женился на некоей Вере Евсеевне Слоним. Не чувствуй себя обойденным. Никакой церемонии не было, они никому о своих планах не рассказали, и никто из родных при их бракосочетании не присутствовал. Конечно, я счастлива за него, как и всем нам следует быть счастливыми, — то есть рада его счастью. Что касается Веры, она, думается мне, создание довольно странное (я, впрочем, знаю ее лишь со слов твоего брата, а он на слова скуп), но во многих отношениях подходит нашему Володе в совершенстве, — она всей душой предана ему и его искусству. Муза и машинистка одновременно — и, по моему счету, пятая из тех женщин, каким он делал предложение. Может быть, теперь он остепенится. Твою тетушку Надежду, кстати сказать, бесит мысль о том, что в нашей семье завелась еврейка. И разумеется, в таком повороте событий винит она, как и всегда, либеральные взгляды твоего отца. Твой дядя Костя слова своего еще не сказал, однако я хорошо представляю себе, каким оно будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу