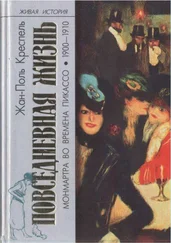Мы разделись, завернулись в полотенца и пошли по скользкому полу к бассейну. Над показавшейся мне маслянистой водой поднимался пар. На одном конце бассейна собралось несколько толстобрюхих мужчин, куривших, стряхивая пепел на его плитчатый обод. Кроме них здесь были только мы. Ничто не люблю я так сильно, как теплое одиночество ванны. Теперь же мне пришлось погрузиться, поеживаясь от брезгливости, в нечистую общую воду. Давид и наш солдат безмятежно плескались друг в друга, хихикая, точно школьники, и я мгновенно перенесся на красный глинистый берег Оредежи и словно воочию увидел двух мальчиков, спрыгивающих с коней, чтобы броситься в ее чистую воду. Давид с Колей, забыв, похоже, о моем присутствии, прекратили шумную возню и теперь с почти церемонной серьезностью сходились, чтобы обняться. Они не поцеловались, но прижались один к другому лбами, большие руки солдата мяли тощие ягодицы Давида. Выскользнув из его объятия, Давид взял Колю за руку и вывел из бассейна, а затем повернулся ко мне и поманил за собой, но я замешкался и лишь смотрел, как они заходят в наш номер. Я еще ничего дурного не сделал. Я мог одеться и выйти из этого темного места под свет бледного солнца, мог спокойно смотреть в глаза отца и доктора Бехетева.
Но разумеется, одежда моя лежала, аккуратно свернутая, на скамье у кровати, которую уже заняли Давид с Колей. Я закрыл за собой дверь номера и смиренно присел, глядя, как они обнимаются и ласкаются.
Когда же я встал и протянул руку, чтобы коснуться Давида, он отрывисто сказал:
— Нет, Сережа! Ты следующий.
И я словно ужаленный отпрянул назад, на скамью. Оказывается, я и не представлял себе, до какой степени развращен мой «абиссинский» брат. Я наблюдал, поначалу с немалым пылом, а затем со все возраставшей печалью, как он отдается нашему мускулистому солдату. Ничто не приготовило меня к этому шокирующему зрелищу — к его саднящей натужности, к грязи.
Закончив с Давидом, обессиленно вытянувшимся на кровати, солдат поманил к себе меня. Я покачал головой. Если мне не хватило смелости покинуть номер, то уж тем более не хватало ее, чтобы зайти еще дальше.
— Не будь дураком, — сказал Давид. — Ты уже свалился в логово льва. Так насладись, по крайности, своим мученичеством, пока оно длится.
Что же, в тех обстоятельствах логика Давида была, я полагаю, безупречной. И скоро я стоял на четвереньках, и Коля орудовал своим львиным языком, и трепет пронимал меня до костей.
Когда сладкая мука завершилась, Коля принялся глотать прямо из бутылки шампанское, а я и Давид — одеваться. Затем мы сложились, выдали ему колоссальную по любым меркам награду за труды и покинули его — голого, все еще сверхъестественно возбужденного. Ничего-то он, бедный прохвост, не стыдился, напротив, вид у него был веселый. Когда мы вышли на деревянный тротуар, Давид улыбнулся и объявил:
— Ну-с, я ощущаю себя грешником, которому отпустили грехи. А ты?
Я в моих ощущениях еще не разобрался. Полный приниженных сожалений, упоительно поруганный, восторженно падший, вызывающе неповинный, почти обессиленный, я шел по улицам не изменившегося города изменившимся человеком, путешественником, вернувшимся из далекой, фантастической страны. И не ведал, что за недолгое мое отсутствие город все-таки переменился. На площади перед Казанским собором собралась большая толпа. Многие держали в руках восковые свечи. Кто-то выпевал молитвы. Ослепленный случившимся со мной чудом, я на миг решил, что это скопление людей имеет какое-то отношение к Карсавиной. Но тут же заметил, что люди в толпе обнимаются, военные целуют штатских, несомненно богатые господа отплясывают с кучерами последнего разбора. Весьма почтенного вида старушка обняла меня и уткнулась, сотрясаясь от плача, лбом в мою грудь. Я спросил у нее, какая стряслась беда.
— Беда? — ответила она. — Какая там беда! Из Невы труп Распутина вытащили, слава те, Господи!
Вот такие душевные смуты и восторги обуревали меня, пока annus horribilis [42] Ужасный год (лат.).
1917-й начинал пробуждаться от зимней спячки. Та зима отличалась избытком морозов и снега — продукты и дрова за этим обилием не поспевали. Почти каждый день по улицам проходили демонстрации с красными флагами и лозунгами «Хлеба и мира». К концу февраля главным настроением горожан стал страх, смешанный с унынием.
Мы с Давидом совершили еще несколько экспедиций на мрачный континент, названный им «инфернальным Петроградом», однако я начинал чувствовать, что он воспринимает мое присутствие рядом как помеху для его наиболее смелых предприятий. По различным намекам и обмолвкам Давида я понял, что он связался с какой-то буйной офицерской компанией; я заметил также, что в последнее время у него стали дрожать руки, а взгляд странно опустел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу