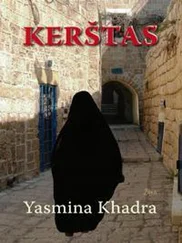Прежде чем выйти из подвала, он прибавляет:
— Выбор прост: или ты бессилен — или другие уязвимы. С безумием или миришься, или подчиняешь его себе.
С этими словами он поворачивается на каблуках и уходит; за ним его свита.
Я неподвижно стою в камере; передо мной — распахнутая дверь, за ней залитый светом двор. Сияние солнечных лучей пронизывает меня до мозга костей. Я слышу, как заводятся машины, как опускается тишина. Я словно сплю наяву и не решаюсь себя ущипнуть. Еще одна инсценировка?
В дверном проеме возникает чей-то силуэт. Я сразу узнаю его: коренастый, полноватый, с покатыми плечами, короткими, слегка кривыми ногами — это Адель. Не знаю почему, но, увидев его, я снова проваливаюсь в ночь; рыдание сотрясает меня с головы до ног.
— Амму? — говорит он убитым голосом.
Он подходит ко мне маленькими шажками, словно в медвежью берлогу заглядывает.
— Дядя? Это я, Адель… Мне сказали, что ты меня искал. Ну вот, я пришел.
— Долго же ты шел!
— Меня не было в Джанине. Захария только вчера вечером приказал мне вернуться, я всего час как приехал. Не знал, что меня к тебе вызвали. Что случилось, амму?
— Не называй меня дядей. С тех пор, как я принимал тебя в своем доме и обращался с тобой как с сыном, все изменилось.
— Да, я вижу, — говорит он, опуская голову.
— Что ты можешь видеть? Тебе и двадцати пяти не исполнилось. Посмотри, до чего ты меня довел.
— Я тут ни при чем. Никто ни при чем. Я не хотел, чтобы она шла себя взрывать, но она так решила. Даже имам Марван не сумел ее разубедить. Она сказала, что раз она чистокровная палестинка, с какой стати ей перекладывать на других то, что она должна сделать сама. Клянусь тебе, она и слушать ничего не хотела. Мы ей говорили, что она нам куда полезней живая, чем мертвая. Она очень помогала нам в Тель-Авиве. Важнейшие наши собрания проходили в твоем доме. Мы переодевались водопроводчиками, электриками, приезжали с инструментами, на аварийных машинах, чтобы не было подозрений. Сихем предоставила в наше распоряжение свой банковский счет; мы переводили на него деньги для Дела. В нашем подразделении в Тель-Авиве все на ней держалось…
— И в Назарете…
— Да, в Назарете тоже, — соглашается он без малейшего затруднения.
— А в Назарете вы где собирались?
— В Назарете никаких собраний не было. Я с ней там встречался, когда приезжал за пожертвованиями. Мы обходили наших благотворителей, потом Сихем отвозила деньги в Тель-Авив.
— И все?
— И все.
— Правда?..
— То есть?..
— Какие у вас были отношения?
— Как у соратников…
— Всего лишь… А чего только не рассказывают о вашем Деле.
Адель чешет макушку. Невозможно понять, растерян он или загнан в угол. Свет, бьющий ему в спину, скрывает от меня выражение его лица.
— Аббас другого мнения, — говорю я.
— Это кто?
— Дядя Сихем. Он еще хотел тебе голову проломить заступом.
— А, придурковатый…
— Все мозги при нем. Вот уж кто прекрасно знает, что сделал и что сказал… Он видел, как вы прятались по углам в Назарете.
— Ну и что?
— Он считает, что есть признаки, которые не обманывают.
В этот миг мне становится до лампочки война и правое дело, небеса и земля, мученики и их подвиги. Чудо, что я еще держусь на ногах. Сердце как бешеное колотится в груди; внутри мерзко, как в морге. Слова опережают страдание, выстреливают из глубины, как языки пламени из окон горящего дома. Я боюсь каждого своего слова, боюсь, что оно вернется, как бумеранг, неся что-то такое, что тут же, на месте сотрет меня в порошок. Но потребность очистить сердце сильнее меня. Я словно играю в русскую рулетку — какая разница, что со мной будет, если момент истины наконец-то расставит все по местам. Плевать мне, когда именно Сихем встала на свой самоубийственный путь, ошибся ли я, подтолкнул ли ее каким-то образом к гибели. Все это вмиг отступает на второй план. Сейчас я хочу знать — прежде всего и больше всего на свете, — изменяла ли она мне.
Адель наконец-то подошел поближе. Он в ярости.
— Ты что хочешь сказать? — задыхается он. — Нет, это невозможно. Да ты что? Ты что выдумываешь?.. Ложь! Как ты смеешь?
— Она превосходно скрывала все, что в ней кипело.
— Это не то же самое.
— Это ровно то же самое. Если человек лжет, значит, он изменяет.
— Она тебе не лгала. Я запрещаю тебе…
— Ты? Ты осмеливаешься мне запрещать…
— Да, я тебе запрещаю, — вопит он, распрямляясь, как пружина. — Не смей осквернять ее память. Сихем была праведной женщиной. Нельзя обманывать мужа, не оскорбляя Господа. Посвящая себя Богу, мы отрекаемся от всего, что в жизни есть, от всего мирского, без исключения. Сихем была святая. Ангел. Я грешен лишь тем, что слишком подолгу на нее смотрел.
Читать дальше

![Ясмина Сапфир - Охотница и чудовище [СИ]](/books/35157/yasmina-sapfir-ohotnica-i-chudoviche-si-thumb.webp)