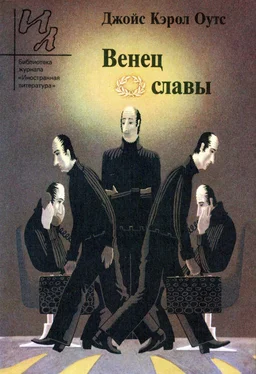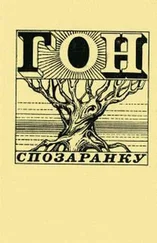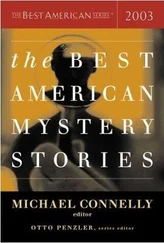— Покуда акт, как сущностную самость, мы с вами сами не возведем в сан немеркнущего словообраза, как ощутим мы его душу ж и ву? — вопрошал Хоаким. — Я несу вам волю! Полное освобождение в безднах полиморфно-похабного хаоса, который заслоняют от вас ваши старшие и ваш архиугнетатель — Поэзия!
Очередная порция аплодисментов. Хоаким выждал, пока они утихнут, и вновь обрушил на слушателей трескучий ритмизованный шквал, из которого едва вычленялись осмысленные слова (у Маррея от молниеносных Хоакимовых выпадов голова шла кругом: неужто теряю способность воспринимать?) — свобода от тирании, конец искусства, конец индивидуального самосознания, конец высшего образования, закат всего «высшего», восход «низшего», пережитки, переоценка, перековка, передел, перелом, перелой, долой Шекспира, да здравствует Расс Мейер, [17] Мейер Расс — продюсер, впервые в истории американского кино добившийся массового проката и значительного коммерческого успеха своей порнокинопродукции.
Вся Власть Народу, популизм, популярность, поп-арт. Цивилизация, по мнению Хоакима, в момент изобретения печатного станка свалилась в штопор, но началось ее нескончаемое, ужасающее падение гораздо раньше — когда воцарилось Слово. «В начете было Слово, — бесновался Хоаким, — и Слово было у Дьявола! [18] Пародия на слова Евангелия «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». — Евангелие от Иоанна, I, 1.
На нас этот крест до сих пор, до сего дня — да, сегодня особенно, — согбенные, мы его тащим, задыхаясь под гнетом осознания собственного „я“…»
Какая страсть, какая убежденность, и снова аплодисменты. Маррей силился не вникать, с него довольно, наслушался!.. а страшновато все же — сколько лиц в аудитории горят восторгом. Хоаким явно студентам нравится. Они ему верят… да они кому угодно и чему угодно поверят!..
Маррей покосился на Брайана Фуллера, посасывающего незажженную трубку. Видно было, что ему не по себе, словно только сейчас начал доходить до него смысл Хоакимова витийства. Чем была поэзия? Чем было самосознание ? Хармон Орбах нетерпеливо ерзал, то закинет ногу на ногу, то опять сядет ровно. С таким видом, будто вот-вот перебьет Хоакима, но все не решается. Боится, видимо. Видно было, как вздуваются, пульсируют голубоватые вены у него на руках. Значит, мертвые? Мы все мертвые? И что же в ней было хорошего, какая такая услада? — добивался Хоаким. — Отчего это, когда слово написано, убито, полиморфное похабство плоти ощущает некое воскрешение ? Маррей откинулся на стуле, посмотреть, как воспринимает все это Анна Доминик. Она сидела бледная, слушала, не веря своим ушам. Во взгляде, обращенном к Хоакиму, была не подслащенно-ядовитая зложелательность, которую она приберегала для Маррея, но явная и неприкрытая ненависть. Голосом, в котором звенел металл, Хоаким излагал свои выводы — шутка на шутке, каламбур на каламбуре, стремительные, завораживающие словесные арпеджио — и закончил прямым запретом: в век ЛСД культура может быть только физической, и такой же должна быть поэзия: каждый — поэт своего тела, его тело — его поп-арт, а зловредное самосознание — навсегда вымарать!
— Во веки веков аминь! — возгласил Хоаким.
Бурные волны рукоплесканий.
И снова рукоплескания.
Накал страстей пошел слегка на убыль, когда ведущий пригласил поговорить желающих из президиума. Некоторое время никто не вызывался. Потом Маррей предпринял попытку хоть как-то дать отпор, но сам, слыша свой сдвоенный микрофоном голос, понимал, что выходит как-то худосочно, постно, прорываются просительные нотки — и нет той силы, которая удержала бы этих людей, десятками покидающих аудиторию. «… Всегда у поэзии были враги… глас неразумия… нацизм… смуту в наших рядах, эти одетые с иголочки безумцы… заискивают перед самыми отсталыми слоями нашей молодежи…» Прошло достаточно бесславно. Следующим попросили что-нибудь сказать Хармона, и после томительного молчания он принялся выкрикивать: «Отпустите меня домой! Отдайте мою ферму! Верните мне моих детей, мою семью! Оставьте в покое мою поэзию, мои стихи, я… мне…» Уже на пути к выходу студенты застывали, прислушиваясь к выкрикам Хармона; в огромной аудитории повисла неестественная тишина, нарушаемая только отдельными разрозненными смешками. В поле зрения Маррея попала та женщина, Каролина Мецнер — ряду так примерно в десятом: ладошки прижаты к щекам, вид, выражающий острейшее наслаждение пряным выплеском скандала. Однако ведущий быстро нашелся, поблагодарив Хармона за участие в дискуссии, и предложил Анне Доминик — ведь она не откажется поделиться своими соображениями, правда?
Читать дальше