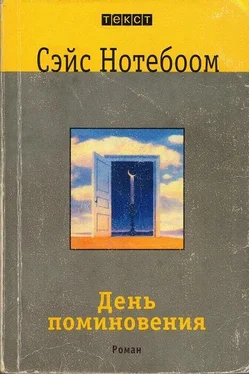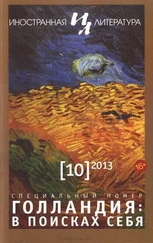— По-моему, это азбучная истина, — сказал ее руководитель, — и потому бессмысленная, но звучит красиво.
При этом он конечно же положил руку ей на плечо и чуть-чуть сжал его, так, что сказать на это было, собственно, нечего. Она сняла его руку со своего плеча, словно незнакомый предмет, и поспешно отпустила. Наказанием вновь стала снисходительная ирония:
— Noli me tangere. [31] Не прикасайся ко Мне (лат.). Евангелие от Иоанна, 20:17.
— Если хотите.
— Ладно, в любом случае я считаю, что эти возвышенные обобщения ни к чему. Мы изучаем историю и ничего боле. А умозрениями пусть балуются взрослые мужчины.
Разумеется, взрослые мужчины, смешно было против этого возражать. Мужчины вообще не терпят, чтобы им перечили. Последний разговор после лекции о Гегеле получился не слишком удачным. Восторги Арно Тика («Ах, как жаль, что вы не слышали лекций Кожева [32] Кожев (Кожевников) Александр (1902–1968) — французский философ, представитель неогегельянства, родился в Москве, профессор Сорбонны, способствовал распространению идей Гегеля во Франции и их истолкованию в духе экзистенциализма.
о Гегеле!») в какой-то мере раззадорили ее, но вычурные фразы великого мыслителя оставались для нее проблемой, а манера лектора говорить в нос еще более усложняла дело.
— Он произносит слова в точности, как Ульбрихт, — сказал один из студентов, слушавших этот курс с ней вместе.
Трудно сказать, правда это была или нет, но внешне лектор больше всего походил на морковку в костюме-тройке; отвечая на ее вопрос, показавшийся ему глупым, он заметил:
— Да-да, я знаю, что в голландских средних школах философии уделяется крайне мало внимания, а уж немецкую философию, вероятно, и вовсе не проходят, впрочем, невежеству нет пределов. С другой стороны, вы в этом, наверное, не виноваты. Как сказал Генрих Гейне: в Голландии все происходит с запозданием в пятьдесят лет.
— Вероятно, именно по этой причине Майнц, Гамбург и Дюссельдорф отказались установить памятник Гейне, и даже в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году ректор нового университета и местные власти не захотели назвать его именем Гейне, да и большинство студентов тоже этого не захотели.
— Вы хотите сказать, оттого, что Гейне был евреем?
— Это уж вы сами разбирайтесь. А по-моему, оттого, что Гейне был умным насмешником, и поэтому даже через сто лет, а сто лет — это два раза по пятьдесят, вы все еще не можете ему этого простить. Памятник, о котором я говорю, стоит сейчас в Нью-Йорке, в Бронксе. Наверное, там он себя лучше чувствует. Впрочем, насколько я знаю, Гейне ни о каких пятидесяти годах никогда не говорил.
От волнения она забыла, о чем его, собственно, спрашивала. Лектор, которого следовало называть не иначе как Неrr Professor, посмотрел на нее уничтожающим взглядом, из студентов в разговор никто не вмешивался, так что он продолжил свою туманную экзегезу. Беседуя с Арно Тиком, она высказывалась резко, и сама это прекрасно понимала, но сейчас, сидя дома в одиночестве, вдруг засомневалась.
Господи Боже мой, ну какой может быть прок от этой грандиозной словесной массы, из которой слушателя лишь изредка, наверное, затронут какие-то обрывки мысли, но затем гигантское целое снова станет похожим на окаменелый свод законов, а потом на почти религиозное стремление продемонстрировать, что все сходится; эти утопические органные тона недоказуемых предсказаний, обещание будущего, в котором, если Элик правильно поняла, мировой дух, кем бы и чем бы он ни был, познает сам себя, так что исчезнут все противоречия, терзавшие мир на протяжении целой истории.
Эта картина казалась ей устрашающей. Внутренне она постоянно протестовала против высокопарных фраз, и все же иногда трудно было не поддаться чарам некоторых формулировок, словно тебе внушал что-то волшебник или шаман: хоть слова и непонятны, но откреститься от них невозможно. Это чувство возникало у нее не тогда, когда она слушала морковку в костюме, а позднее, когда она сидела дома или в библиотеке, вчитываясь в архитектуру длинных — предлинных гегелевских фраз и подчеркивая их в книге. Ей казалось, что в подчеркнутых фразах она разобралась до конца, но час-другой спустя у нее уже не получалось воспроизвести их, и от них оставалась только их религиозная, их фантастическая составляющая. Неужели всерьез можно было думать, что «Наполеон был человеком полностью удовлетворенным, который в силу своей окончательной удовлетворенности завершил ход исторического развития человечества»? Где и что вы видите вокруг нас, что можно назвать «завершенным»? И все же у нее было ощущение, что нехорошо так думать об этих гегелевских словах, что она не поддается их обаянию только потому, что чего-то в них не уловила. Как это сформулировал Арно? «А у вас нет ощущения, что Гегель, живя в то далекое время, впервые понял идею свободы и в этом смысле на самом деле можно говорить о завершении эпохи?»
Читать дальше