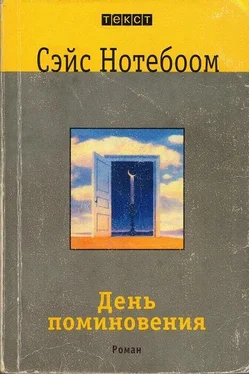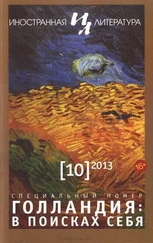— Я пью, чтобы не зависеть от фактов, — объяснила она тогда, и ему показалось, что он ее понял. Она ткнула его кулаком в грудь («Так принято у нас в России») и при свете фонаря над парадной посмотрела голубыми глазами прямо ему в лицо («Евреи тоже бывают голубоглазыми»).
— Субъективное пьет для того, чтобы не зависеть от объективного… Ты меня слушай, слушай, ха-ха — ха…
Затем она вихрем влетела в парадную и захлопнула дверь у него перед носом. Он слышал, как она еще раз прокричала уже на лестнице:
— Ты меня слушай, слушай!
Господин Шульце снова подошел к их столику. Его сын, с виду — сердитый ангел, причем такой же манерный, как отец («Если только это его отец», — сказал Виктор), уже успел прибрать со стола, и теперь отец смотрел на гладкую скатерть, словно решал метафизическую проблему. Точно марионетка, он вытянул руку в направлении пустого места на столе и спросил, что сюда поставить. У него было на сей счет предложение, и друзья знали какое. Оставалось лишь обменяться ритуальными фразами.
— Триумф селянина?
— Великолепно.
— Зерно, корова и свинья?
— И то, и то, и то.
Через некоторое время на столе появился горшочек топленого сала на деревянной подставке и солидный кус сыра, который пролежал в подвале, несомненно, с самых средних веков. Handkase.
— Больше всего он похож на гигантский кусок мыла, — сказал Виктор. — Почему вы называете это сыром? Это какой-то сургуч для запечатывания гробов.
— Лютер, Хильдегард фон Бинген, [12] Немецкая монахиня бенедиктинского ордена (1098–1179) — автор религиозно-мистических сочинений и церковных гимнов, а также сочинений по медицине и естественным наукам. Канонизирована в XV веке.
Якоб Бёме, Новалис и Хайдеггер — все ели такой сыр, — сказал Арно. — То, что чует нос, резкий сырный дух, — это немецкий вариант вечности. А то, что видит глаз, — блестящая и одновременно чуть матовая, полупрозрачная, точно свечное сало, материя, — это, возможно, мистическая сущность моего любезного отечества.
Он вонзил нож в сыр.
— Ну что, выпьем сначала красного или сразу примемся за «Хефе»? Господин Шульце, bitte, четыре бокала домашнего вина из монастыря Эбербах.
Hefe, Артур посмотрел это слово в словаре. Закваска, осадок, подонки, подонки общества, в общем, отстой, — но эти варианты перевода не имели никакого отношения к прозрачному и золотистому напитку в высоких бокалах, стоявших перед ними на столе. Дух вина. Вокруг звучали негромкие голоса посетителей. Трудно было поверить, что он и его друзья находятся в центре огромного города, и еще труднее, что город этот покрыт толстым слоем снега, который скоро растает и оставит после себя лужи и серую, холодную слякоть. Завтра утром, перед самым восходом, он пойдет к отелю «Эспланада» чтобы еще поснимать Потсдамерплатц.
— Господин Шульце, — спросила Зенобия, — а как поживает наш добрый старый друг Галинский? Он, конечно, испугался снега и не пришел?
— Плохо же вы знаете господина Галинского! Он здесь, на своем обычном месте, в углу зала.
Они обернулись. В дальнем углу, один за столиком, в профиль к ним сидел глубокий старик. Никто точно не знал, сколько ему лет, знали только, что за девяносто. Он приходил сюда каждый вечер очень поздно («Все равно бессонница»), а когда-то в том Берлине, которого никто из них уже не застал, зарабатывал деньги игрой на скрипке, был скрипачом в цыганском ансамбле в «Адлоне». И сумел выжить во все времена. Больше о нем ничего не знали. Он приходил сюда после одиннадцати, медленно выпивал графин вина, выкуривал сигару и казался погруженным в вечные раздумья.
— Пойду с ним поздороваюсь, — сказала Зенобия, но, когда она вернулась, по лицу ее было видно, что разговор не состоялся.
— И что он сказал?
— Ничего не сказал, похоже, он никогда уже больше не захочет говорить.
— От тоски?
— Наоборот. Но у него такой странный взгляд, как будто внутри свет горит. Прямо весь сияет.
— Это твое русское воображение. Славянская склонность к преувеличениям.
— Очень может быть. Могу выразить это еще более по-русски. У него почти что нимб вокруг головы, он стал иконой. Так лучше?
Они посмотрели в его сторону.
— Ты не спутала с этим настенным светильничком у него над головой?
— Нет. Если хочешь сам убедиться, пойди встань прямо перед ним. У него светятся глаза… Я знаю такой взгляд.
Больше никаких объяснений не требовалось. В детстве Зенобия пережила блокаду Ленинграда, она рассказывала об этом ровно один раз. Артуру запомнилось ее описание того, что она называла «тихой смертью», смертью от голода и холода, когда люди, сдавшись, ложились лицом к стене, словно мир, сжавшийся для них до размеров комнаты, уже соскользнул с них, стал враждебной и пустой стихией, в которой им уже не было места. Наверное, это она и имела в виду в ту пьяную ночь, когда говорила о своем стремлении «не зависеть от фактов». Как-то раз он попытался вернуться к тому разговору.
Читать дальше