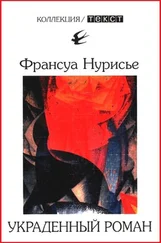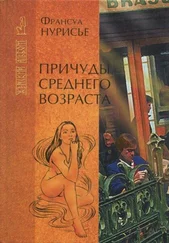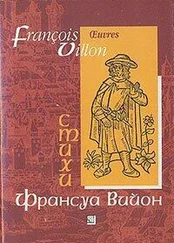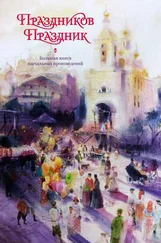Эти слова и другие, ты их по-прежнему помнишь? Или только я один вот уже многие годы переливаю из пустого в порожнее эпизоды нашей игры в прятки. В тот вечер в Б., хотя ты и разговаривала со мной тихим голосом, хотя в нем и ожили былые интонации (однако я уверен, что ты в своей жизни продолжала пользоваться ими всегда), все равно ты оставалась недоступной.
Когда умер Лашом и когда я встретил тебя, моему сыну не было еще трех месяцев. Очевидно, женщины из твоей семьи, «знавшие семью моей жены», упоминали, уже смирившись с этим, о страданиях и страхах, испытанных Сабиной при рождении Люка. Она проводила тогда свое время между больницей и санаторием, и это ее отсутствие было мне на руку. Я советовал ей вести себя осторожней — о, фарисей! Таким внимательным мужем я еще не был никогда: ребенок в кувезе, Сабина в руках врачей, а я мог бежать к тебе и не чувствовать за собой никакой вины. С этим отсутствующим, хилым, лишь наполовину живым младенцем нельзя было связывать никаких надежд. В момент его рождения и в последующие недели я был удручен своим безразличием к болезням и переживаниям Сабины. Если раньше я верил, что еще люблю ее, то теперь все стало на свои места.
Об этой, другой стороне своей жизни я старался говорить тебе как можно меньше, но ты хорошо себе ее представляла. Моя бесчувственность, которая могла показаться тебе залогом твоей близкой победы, возможно, внушала тебе ужас. Сам того не зная, я рыл яму, куда мы должны были угодить оба. Мы были одни. Ксавьер, сначала посмеявшись над нашим приключением, притворилась, что она шокирована, а в то же время в глубине души она сознавала свою ответственность. Ей было не к лицу, состарившейся и только что похоронившей Лашома, возвращаться к двусмысленностям и любовным интригам своей молодости. Защищать Сабину, то есть при каждом удобном случае вызывать в твоем присутствии тень моей жены, дабы возбудить в тебе угрызения совести, стало одной из составных частей и одним из доказательств ее ответственности. Она тебя увещевала. А ты, хотя и имела «меньше моральных устоев, чем я тебе приписывал», все же иногда проявляла слабость. Моя циничная бравада побуждала тебя к раскаянию, а я сам начинал раскаиваться именно в те моменты, когда видел, что ты готова стоять до конца. Ни разу за двенадцать месяцев мы с тобой не были трусами или храбрецами одновременно. Если, конечно, под храбростью подразумевать способность попирать Сабину и считать несуществующим чахлого младенца, которому полдюжины врачей изо всех сил старались сохранить жизнь. Я был не в состоянии порвать с тобой, но не знал об этом. Одним словом, я тебя любил.
Здесь я подхожу к своей тайне.
Живых хоронишь без особого труда. Легко расправляешься с огненной, трепещущей страстью. А потом долго-долго хранишь молчание. Например, лет семнадцать. Причем проделываешь это, не будучи ни чудовищем, ни героем, а единственно из-за нашей же тяги к абсолюту, к поражению, к развязке. После одиннадцати месяцев и двадцати дней вызванного тобой умопомешательства я устал. Я испытывал потребность в тишине, в порядке. Меня не искушала уже даже ложь, мой наркотик. Сабина казалась совершенно обессиленной и вроде бы уже смирилась с моей отчужденностью; однако, когда она почувствовала мои колебания, все сразу переменилось. Она сунула мне в руки маленького горлопана, в конце концов надумавшего жить. Ситуация была классическая просто до тошноты, но только вот где он, секрет бесчувственности? Твой отец — я уверен, ты об этом ничего не знала — надоедал мне со своими мужскими, скучными предостережениями. Употреблявшееся им тогда выражение «как мужчина с мужчиной» я воспринимал с отвращением. Я никогда не любил и полагал, что уже никогда не полюблю отношения и доверительные беседы «как мужчина с мужчиной», эту столь суетную манеру выставлять грудь колесом и подрезать себе крылья. Меня в самом себе интересовала в первую очередь женщина, женское начало, та гибкость и то бесстыдство, которым ты дала возможность проявиться и из которых я извлекал столько счастья. Ведь ты дала мне очень много счастья.
(Теперь — я отмечаю это здесь, хотя произошедшая со мной метаморфоза никак не связана ни с тобой, ни с нашей историей, — я стал по отношению к сыну своего рода новым господином Эннером. Подобно ему, я мечтаю о таком устройстве мира, когда мужчины, стиснув челюсти, шагают в ногу. При этом все слабости Люка, совершенно детские, которые я осуждаю по меркам своей собственной морали и которые так выводят меня из себя, — просто ничто по сравнению с тем затяжным безволием, ценой которого мне удалось тебя похитить и на мгновение удержать рядом с собой. Удовольствие возвеличивало все и все прощало. Я был обязан упомянуть здесь об этой столь отвратительной непоследовательности; во имя всего благого. Я сохранил по-прежнему болезненную привязанность к истине — дабы спасти честь, если это еще возможно.)
Читать дальше



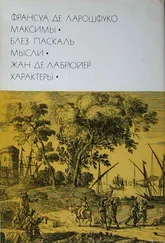
![Брайен Фрил - Праздник урожая [=Танцы на праздник урожая]](/books/93035/brajen-fril-prazdnik-urozhaya-tancy-na-prazdnik-ur-thumb.webp)