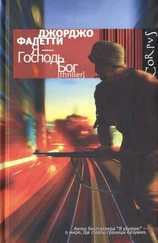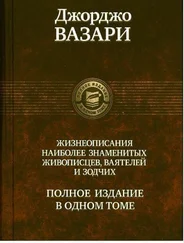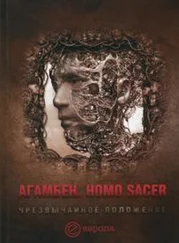Но я должен сказать, что ошибался в том, что касалось поэтических пристрастий Малнате. Его любимыми поэтами были не Виктор Гюго и Кардуччи. Кардуччи и Гюго он уважал как марксист и антифашист. Но его действительной привязанностью, его любовью, как всякого истинного жителя Милана, был Порта. До того времени я всегда противопоставлял Порту Белли. Малнате говорил, что это не правильно, — нельзя, дескать, сравнивать похоронную, конформистскую монотонность Белли с теплой жизнерадостностью и жизнелюбием Порты.
Он помнил наизусть сотни стихов и декламировал их своим низким, немного хриплым голосом, голосом Менегина, ночи напролет, когда мы, гуляя, шли по улице Сакка, или по улице Коломба, или потихоньку поднимались по улице Волге, заглядывая через приоткрытые двери в освещенные вестибюли домов терпимости. Он знал наизусть всю «Нинетту» — я впервые услышал ее от него.
Грозя мне пальцем, подмигивая хитро и весело (с намеком на какой-то неизвестный мне эпизод его миланской юности), он часто шептал: «Нет, Гиттин, я не способна изменять, скажу тебе откровенно…» Или горько, надрывно произносил: «Покидая Ломбардию навек…» И словно говорил мимикой и жестами, что сонет написан не о французах и Наполеоне, а о фашистах.
С таким же энтузиазмом он читал стихи Рагаццони и Делио Тессы. Я не мог отказать себе в удовольствии и заметил, что Тессу нельзя считать классическим поэтом, потому что у него слишком много упаднической чувствительности и декадентства. Но все, что было связано с Миланом и с миланским диалектом, всегда настраивало Малнате на благодушный лад. Все, что касалось Милана, он принимал с крайним добродушием и снисходительностью. В Милане даже декаденты, даже фашисты были не так уж плохи.
Он декламировал:
Думай и делай, смотри и слушай,
сколько живешь, столько учись,
а если бы вновь предстояло родиться снова,
я бы родился котом привратницы.
К примеру, я мог бы на Ругабелле
Родиться котом кумы Пинин…
И смеялся про себя, смеялся, исполненный нежности и ностальгии.
Я, понятное дело, не все понимал на миланском диалекте и, когда не понимал, спрашивал.
— Извини, Джампи, — спросил я его однажды вечером, — а Ругабелла это что? Я, правда, бывал в Милане, но не могу сказать, что хорошо знаю город. Представляешь? Это город, в котором я ориентируюсь еще хуже, чем в Венеции.
— Да ты что! — Он чуть не подпрыгнул и ответил неожиданно зло: — Ведь это такой простой, такой рациональный город! Не понимаю, как у тебя духу хватает сравнивать его с Венецией, этой кучей мокрого дерьма!
Но потом, сразу успокоившись, объяснил, что Ругабелла — это улица, старая улица недалеко от собора, что он там родился, что там живут его родители и что туда через несколько месяцев, может быть, еще даже до конца года (конечно, если Главное управление в Милане не отклонит его просьбу о переводе) он надеялся вернуться. Я должен его понять: Феррара, конечно, прекрасный городок, живой, интересный с разных точек зрения, включая и политическую, конечно, опыт, полученный им за последние два года, которые он здесь провел, очень важен для него, однако свой дом — это всегда свой дом, мама — это мама, а с небом Ломбардии, «таким прекрасным, когда оно прекрасно», не может сравниться никакое другое небо, по крайней мере для него.
VIII
Как я уже сказал, едва прошли двадцать дней изгнания, я снова стал приходить в дом Финци-Контини по вторникам и пятницам. А поскольку я не знал, как убить воскресенье (даже если бы я захотел возобновить отношения со старыми одноклассниками по лицею, с Нино Боттекьяри, или с Отелло Форти, или с другими приятелями, уже по университету, с которыми я познакомился в Болонье, я бы не смог этого сделать — они все разъехались на лето), то позволил себе появляться там иногда и по воскресеньям. Миколь не стала возражать, она никогда не говорила мне, что я должен буквально придерживаться нашей договоренности.
Теперь мы относились друг к другу с величайшей осторожностью, может быть даже излишней. Мы понимали, что хотя и достигли довольно устойчивого равновесия, оно все же остается шатким, и принимали все меры предосторожности, чтобы случайно не нарушить его, старались держаться на некой нейтральной территории взаимного уважения, где не было места ни откровенным разговорам, ни явной холодности. Когда Альберто выражал желание играть, а это случалось все реже и реже, я охотно участвовал в парной игре, но избегал при этом становиться в пару с Миколь. Однако чаще всего я даже не переодевался. Я предпочитал судить бесконечные упорные поединки между Миколь и Малнате или же сидел под зонтом у края поля и развлекал Альберто.
Читать дальше