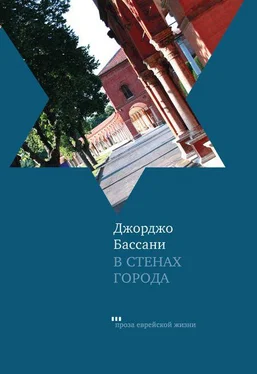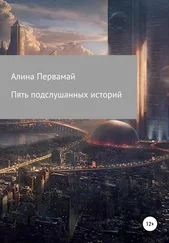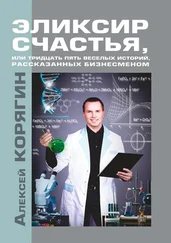Джорджо Бассани
В стенах города
Пять феррарских историй
Лида Мантовани
Пер. Михаил Кабицкий
I
Возвращаясь мыслями в годы далекой молодости, всегда, всю жизнь Лида Мантовани с волнением вспоминала день родов и особенно несколько предшествующих дней. Всякий раз, думая об этом, она испытывала волнение.
Долгое время, более месяца, провела она тогда, лежа в постели, в глубине коридора; и все эти дни только и делала, что смотрела в окно напротив, обычно распахнутое настежь, на листья большой столетней магнолии, возвышавшейся прямо посреди сада. Потом, ближе к концу, за несколько дней перед тем, как начались схватки, она вдруг резко потеряла интерес и к этим черным и блестящим, словно смазанным маслом, листьям магнолии. Она перестала даже есть. Бессловесная вещь, вот во что она превратилась: надутый и бесчувственный предмет (было уже жарко, хотя стоял только апрель), оставленный там, в глубине больничной палаты.
Она почти ничего не ела. Но профессор Барджеллези, в то время главный врач родильного отделения, повторял, что это к лучшему.
Он стоял в ногах кровати и наблюдал за ней.
— Действительно, жарко, — говорил он, поглаживая своими хрупкими красноватыми пальцами белую бороду с пятнами от табака вокруг рта. — Если хочешь дышать как нужно, лучше не перегружать себя. А кроме того, — добавлял он с улыбкой, — кроме того, мне кажется, что ты уже и так достаточно толстая…
II
После родов время снова пошло вперед.
Сначала, думая о Давиде (скучающий, недовольный, он с ней почти никогда не разговаривал: целыми днями лежал в постели, пряча лицо за книгой, или спал), Лида Мантовани рассчитывала прожить самостоятельно в меблированной комнате дома на улице Мортара, где вместе с ним она жила последние полгода. Но позднее, через несколько недель, поняв, что Давид уже не даст о себе знать, заметив к тому же, что несколько сотен лир, которые он ей оставил, вот-вот кончатся, и так как, помимо всего прочего, у нее стало не хватать молока, она решила вернуться домой к матери. И вот таким образом, летом того же года, Лида вновь появилась на улице Салингуэрра и опять стала жить в маленькой комнатушке с пыльным деревянным полом и двумя составленными вместе железными кроватями, где провела детство, отрочество и раннюю юность.
Хотя это был подвальный этаж, когда-то использовавшийся для хранения дров, проникнуть туда было нелегко.
Войдя в подворотню, служившую прихожей, большую и темную, как сеновал, нужно было вскарабкаться по лесенке, поднимавшейся вдоль Левой стены. Лесенка вела к низенькой двери вполроста: пройдя в нее, Лида упиралась головой в балки потолка, нависающие над дырой, напоминавшей лестничную шахту «Боже, какая тоска! — сказала себе Лида в вечер своего возвращения, задержавшись наверху и глядя вниз. — Однако и какое чувство защищенности, спокойствия…» С ребенком на руках она медленно спустилась по внутренней лестнице и пошла навстречу матери, поднявшей голову от своего шитья, наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. Та ответила поцелуем, спокойным, без единого слова приветствия или обсуждения.
Почти сразу встал вопрос о крещении ребенка.
Едва осознав положение, мать перекрестилась.
— Ты что, с ума сошла? — воскликнула она.
Пока мать в волнении провозглашала, что нельзя терять ни минуты, Лида чувствовала, как в ней ослабевает всякая способность к сопротивлению. Когда в родильном отделении, принимая у нее ребенка, к ней обращались с радостными вопросами, как она хочет назвать малыша, из желания не делать ничего против Давида она не отвечала, говорила, что хочет подумать еще немного. Но теперь, размышляла она, с чего бы ей продолжать проявлять принципиальность? Чего теперь ей дожидаться? В тот же вечер ребенка отнесли в церковь Санта-Мария-ин-Вадо. Мать все устроила; именно она, в память о своем умершем брате, о существовании которого Лида даже не подозревала, решила назвать внука Иренео… Направляясь в церковь, мать и дочь шли поспешно, будто их кто-то преследовал. А на обратном пути они медленно, словно вмиг утратив всякую энергию, поднимались по улице Борго-ди-Сотто, где городской фонарщик зажигал один за другим уличные фонари.
На следующее утро они вновь принялись за работу.
Сидя, как когда-то, как всегда, под квадратным окном, выходившим на улицу вровень с тротуаром, склонив головы к шитью, они предпочитали говорить, если уж случалось, не о том горьком для них обеих времени, которое они только что пережили, а об отвлеченных вещах. Они чувствовали сейчас гораздо большую теплоту, привязанность друг к другу. Обе они, впрочем, понимали, что согласие между ними могло сохраняться только так: при условии, что они будут избегать всякого упоминания о той единственной вещи, на которой оно основывалось.
Читать дальше