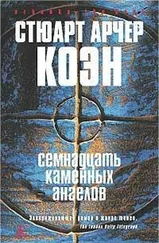— Как думаешь, правильно я делаю, что пишу его имя на плите? — спросила я Джона.
— Да какая разница, — устало сказал Джон. — Он умер. Он об этом не узнает, ему все равно. Они с Карри теперь — всего лишь две стороны одной монеты. Пусть хоть здесь соединятся.
Не знаю, что Джон имел в виду. Он не стал объяснять. Не знаю также, кто из нас двоих больше любил Брэма и любил ли его кто-то из нас вообще. Да, я много ругалась с ним в прошлом, но, видит Бог, у меня были на то причины. И все же он был мне дорог. Джон же мыл его, кормил и помогал умирать — только он сам знает, какого свойства была та помощь, и только Бог знает, правильно ли он поступал и что стояло за его поступками.
Но когда к вечеру мы вернулись с похорон домой и зажгли лампы, заплакал Джон, а не я.
Лучи солнца колют меня иголками, и я просыпаюсь. Почему все тело затекло и болит? Что со мной? Затем я понимаю, где нахожусь и как спала: в одежде и даже в туфлях, ничем не согретая, кроме своего кардигана. Что-то гонит меня прочь из этой комнаты со спертым воздухом навстречу свежему, но мне не хочется вставать. Дорис всегда приносила мне завтрак в постель, когда я особенно плохо спала ночью. Если бы я вернулась, она бы, конечно, сделала это и сегодня.
Соблазн велик, и в какой-то миг я почти готова ему поддаться. Преодолею как-нибудь две сотни земляных ступенек, выберусь из этой ямы, оставив позади мрачные кедры и море, потом найду кого-нибудь, спокойно все объясню и попрошу оказать мне любезность и отвести меня в ближайший полицейский участок…
Нет. Ни за что. Вернувшись, я дам Дорис отличный повод для злорадства — так, мол, и знала, нельзя ее выпускать из виду ни на минуту. Будет ахать и охать и взывать к Марвину. А потом еще и…
Ну конечно. Я чуть не забыла. Они упакуют меня в машину и доставят в то место, как посылку со старым тряпьем. Оттуда мне уже не выбраться. Из таких мест выходят только ногами вперед в деревянном я шике. Я не дамся. Пошли они к черту, эти охотничьи собаки, что хотят меня загнать.
Что ж, сила духа ко мне вернулась, теперь бы разобраться еще с моей обезвоженной плотью. Во рту не было ни капли воды уже… я даже не помню, сколько времени. Давно. Жажда ощущается совсем не так, как я ее себе представляла. В горле моем нет ощущения жжения или чрезмерной сухости. Но оно сдавлено, перекрыто, глотать больно. Морскую воду пить нельзя — кажется, она ядовита? Точно. «Кругом вода, но не испить ни капли, ни глотка» [15] Строки из «Сказания о Старом Мореходе» Сэмюэля Кольриджа, перевод В. Левика.
. Это про меня. Какого же альбатроса я убила, скажите на милость? Ладно, пора за дело — давай, старый мореход, вылезай из своей зловонной койки и вперед, на поиски.
Мне становится почти весело, хотя, видит Бог, причин для этого у меня решительно нет, и я довольно осторожно поднимаюсь и надеваю шляпу, не забыв тщательнейшим образом стряхнуть с бархатных лепестков пыль. Я беру мешок с провизией, спускаюсь по лестнице и выхожу на улицу.
Утро ясное и спокойное, все вокруг сияет чистотой и золотом. Здание рыбоконсервной фабрики тихо и безмятежно стоит, обдуваемое теплым ветерком, а за его деревянными стенами, у самой кромки моря, я слышу негромкий и ритмичный плеск волн. Земля влажная — должно быть, ночью шел дождь. На деревьях больше нет пыли. Дождь омыл каждый листик, и теперь они переливаются всеми оттенками зеленого: тут и желто-зеленый лайм, и бутылочное стекло, и изумруд, и павлиний хвост, и голубиное перо. Я восхищаюсь таким разнообразием.
Ватага буйных воробьев, на удивление шумных для своих размеров, хлопает крыльями и суетится в неистовом порыве легкомысленного веселья, и, завидуя и восхищаясь одновременно, я следую за ними. Шагаю я неторопливо, но только лишь из соображений безопасности. Птахи замедляют полет, кружат в воздухе, садятся на землю, и я понимаю, что они задумали. Ржавое помятое ведро у сарая собрало для них дождевую воду. А заодно и для меня. Я всегда любила воробьев. А теперь они привели меня сюда — вот, мол, пожалуйте, ваш колодец в пустыне.
По возможности тактично я начинаю махать руками и отгонять птиц, и они осыпают меня ругательствами с расстояния. Вода мутная, она отдает землей, опавшими листьями и ржавчиной, но мне грех жаловаться. Не обращая внимания на упреки воробьев, я беру видавшее виды ведро и заношу его за дверь своего особняка. Жаль лишать их воды, но так уж устроен этот мир: каждый сам за себя.
Я спускаюсь по тропинке к морю. В соленом воздухе стоит запах рыбы. Берег вымощен белыми камнями, намытыми морем, и они стучат друг о друга под моими дрожащими ногами, а иногда и выскальзывают из-под них. На пляже, словно скамейки, лежат огромные бревна, оторвавшиеся от кошели и прибитые к берегу. Море зеленое и прозрачное. Там, где помельче, видно дно, усеянное камешками — на суше они серо-коричневые, тускло-оливковые и синевато-серые, а под водой сияют влажным блеском не хуже граната, опала и нефрита. По воде медленно плывет клубок темных водорослей — словно за русалкой тянутся украшенные коричневато-желтыми волнистыми листьями нити волос. Пустые ракушки, очевидно выпотрошенные чайками, торчат из мокрого песка, как выброшенные блюдца из мусорной кучи. Одинокий краб осторожно переваливается, помогая себе клешнями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу