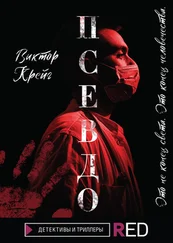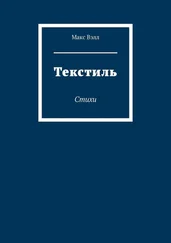Но столетья прошли,
И продумал я думу столетий.
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети.
Так же тих догорающий свод,
Тот же мир меня тягостный встретил.
Но ночная фиалка цветет,
И лиловый цветок её светел.
И в зеленой ласкающей мгле
Слышу волн круговое движенье,
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.
Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.
Сейчас я вдруг подумала, что его стихи на тебя могут произвести другое впечатление. То, что я хотела сказать, — это необыкновенная, неуловимая тонкость чувства (доступная, может быть, лишь Мандельштаму и Блоку — никому кроме них её не удавалось выразить), тайное, внутреннее знанье и, — нечаянная Радость, которая пребудет совершенной.
Прости, что я так углубилась в себя, но мне необходимо осмыслить, осознать новую себя — «дойти до самой сути». (К списку использованной литературы прибавился ещё и Пастернак.) Особенно ясно я сейчас чувствую, что я — «with the love of the past» — с любовью к прошлому, в прошлом — по-английски это звучит изящней. Так говорила про меня одна из трех моих любимых учительниц Ольга Маратовна.
Мне кажется почему-то, что вся история (эта, наша история) на самом деле какая-то не из двадцатого века. Сама я века из XVIII–XIX — это сказал уже другой любимый учитель, Лернер: «Милочка у нас девушка из XVIII-го в». (Может быть он поэтому меня и любил.) А ты вообще довольно средневековый рыцарь Прекрасной Дамы (хотя «Прекрасная Дама» — это не обо мне). Если честно, то осознание собственной несвоевременности иногда очень тяжело. Но сейчас этой тяжести я не чувствую. Мне снятся только веселые думы. Или только кажется? Или все узнается?
Мила.
(Приблизительно начало второй декады декабря 1989-го года.)
Я кота к себе позвал, вместо мамы, а он уже не пошел. Поздно. Обиделся. Что теперь?..
Сегодня эксперимент. Детишки мои слушают «Весну священную», не зная ничего ни о Стравинском, ни о ХХ-ом веке вообще. Чем-то это закончится? Вот как раз моя любимая темка. Одна из любимых.
А пишу-то я сейчас черным фломастером. Грифель у него тоненький, остренький, как язычок искомый. Писать легко, нежно как-то писать, как будто ласкаешь кого-то. (Звонок! Он ничего не означает. У меня другое расписание.)
Раньше у меня был такой же фломастер, только синий. Он тоже был нежный и легкий. Кайф был. Был у меня кайф. Кайф синим фломастером писать. Что угодно писать, а всё в кайф! Люблю тонкие фломастеры я. Приятно ими писать, как будто ласкаешь кого. Интересно, хотела ли меня архангелогородка Люда? Шарфик заботливо поправляла на мне, когда уезжали. Уезжали мы с оркестром, и так и не поеблись с энтой Людушкой-голубушкой первоапостольной. Архангелогородкой.
Классный композитор Стравинский! (Не думайте, я могу о неми профессионально сказать. Я — мальчик учёный. Много умных словечек знаю: менталитет, трансценденция, экзистенциализм, маргинальность, амбиент, дегуманизация, нойз, синкретизм, поебень, поебеньталитет и т. д.)
— Нынче же будешь со мной в раю!
— Що цэ такэ?
— Больно мне. Камень на сердце у меня. Словом, нелегко, — Имярек-апостол сказал и покинул. Покинул, покинул…
Пиписька-пиписька, сколько мне жить осталось? (Неплохая сентенция для урока по музыкальной литературе, isn't it?)
Шёл по лесу солдат. Возвращался с войны. Грустен был этот солдат. В последнём сражении потерял он огниво. Где потерял, где искать, что делать, чем обязан потере внезапной такой?
За спиной остались поверженные города и пылающие станицы. Простой солдатский флаг развевался над царьградским рейхстагом, Лондоном, Вавилоном, Мемфисом и Афинами, не говоря уже о Москве и Архангельске.
Но грустно было солдату. Неприкаянно, неловко, неуютно. Отсутствовало огниво как факт.
Уже подписана была капитуляция. Уже победили наши. Уже разгромлены были татаро-германские орды мусульманских молодчиков. А огниво отсутствовало как факт. И в списках не значилось. И без вести пропавшим оно не считалось, ибо отсуствовало как факт. Лишь в сереньком солдатском воображении, лишь в скудной воинственной памяти существовало оно.
Уже до охуенья земного возрадовался Лев Гумилёв. Уже почили в радости скотской остальные герои конкурсной мелодрамы, а огниво отсутствовало как факт.
Шёл солдат, шёл, плакал, сопел себе дырочкой в правом боку, — вдруг видит, сидит на пеньке какая-то старая седенькая какашка.
Читать дальше




![Виктор Крейг - Псевдо [litres]](/books/435702/viktor-krejg-psevdo-litres-thumb.webp)