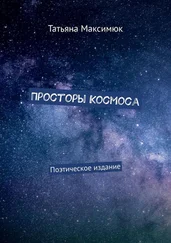Но лес сначала валить предстоит. Но и это еще не все. Потом предстоит пилить, прессовать и куча чего еще, чтоб наконец возгорелась Любовь и пошла по ветвям, от одной книги к другой, от одной полки к новой, от одной библиотеки (вавилонской) до другой библиотеки (александрийской). Таков марафет огня (марафон).
Через четыре дня будет в сон погружен Вавилон. Во сне голову на плечах не носить, — прятать в матерчатую котомочку; на девок не залипать; глаза не держать наготове; — пусть все время будет огорошен зрачок!
Это мой стиль! Это первая в истории книга, которую пишет мертвый… Даром, что помню я, что в «Новых праздниках» неверная ссылка на эпиграф из Франсуазы Саган. У меня там чуть было не стало написано «Немного солнца в холодной воде» (откуда я это и только взял?), а следует и установлено точно, что — «Здравствуй, грусть!» Это прямо какой-то «Прощай, оружие!» — мой любимый юношеский роман, каковой, блядь, так въелся, что боже мой, — в цене нынче мама!
Тепло там, где уютно. Это когда тихое счастье, когда «зима катит в глаза», а ты во сне улыбаешься своим игрушечным грезам, плачешь и радуешься, будто ты там навсегда. Только на девок, на девок не залипать! А то потом трудно выдирается из котомочки голлова. Трудно монтируются охуевшие по жизни глаза.
ЙОган грустит, Амадеус не в духе, Дмитрий Дмитриевич не радуется больше бьющейся жилке. Разлюбил. Но Весна еще будет!
Наблюдал сам-то я этой весной хвалёный среднерусский разлив. Сидел целый день у некоего озера, нюхал себе героин, чуть не плакал от счастья и гладил местную собачку Дружка, трепал ему там за ушкОм и т. д.
Потом очень многочасовой сон в деревенском доме, в котором три года назад еще только мечтал об особе одной, столь много впоследствии шуму наделавшей в моей невнятной судьбе.
Перед сном опять героин. Героин и стихи, конечно, только изредка отрываясь от строчек и глядя в окошко, на озеро.
И так я прибился: героин, стихи, героин, стихи, героин, сон, героин, сон, стихи, героин, сон, стихи, стихи, героин, сон, героин, что из дома три дня я не выходил.
Выхожу на четвертый — глядь, — озера-то и нет. Да и откуда там ему быть, вспоминаю я свое первое посещенье этих мест трехгодичной давности. Понял тут, что такое разлив…
Кончился героин. Поехал в Москву. Там держался, а потом сорвался опять; не мог спокойно работать аранжировщиком; все думал, главное, перед приездом выше уже указанной особы успеть соскочить, да нет, не успел. Тут все и кончилось.
Я в больницу попал. Вышел и постепенно вроде бы слез.
Дома снова за книги, которые так себя любят, меня, друг друга! Но до сих пор все никак не найду, на какой же страничке-то жилка бъётся…
Вот загадка какая.
Маришенька пригласила (ненароком-белОбоком) как-то Наташу в гости, и хочет её погубить. Та тупится в смятении в пол. Не находит слов. Подозревает дурную свою головУ.
М. же изображает радость. Не напрыгивает чуть на подругу. Та замечает графин с зеленоватой водой на столе. Вопрос: «Не это ли море?»
Маришенька все болье походит на свою букву «М». Начинает первая плесть ярмо. Говорит: «Поедем, Наташа, кататься на буйволах в дикое поле!»
Та подозревает беду. Отказаться — не та ситуация вроде. Собираются. Едут. Запрягают быков. «Это ли буйволы?» — истерично вопрошает Наташа. «Нет», — Маришенька отвечает. Буйволы, как оказывается, подойдут к девяти часам к Сиреневой Башне.
«Это что за образ такой?» — вопрошает опять Наташа, крутя на груди у подруги. «Образ богородицы нашей, вечнодевственной чисто девы Марии», — ответ маришеньки, не дрогает ни один мускул на лице искуссительницы Маришки.
«Едут! Едут!» — зазвенели вдалеке бубенцы, раздались крики шестерых мужиков. «Буйволы едут!»
«Ты первая садись в колесницу, а я за тобою следом!» — попыталась распорядиться Маришенька и, не скрывая, казалось, никаких враждебных намерений, показывая тем самым, как ей казалось, что таковых у нее и нет.
«Нет уж, Маришенька!» — ответствовала потупИвшаяся Наташа, — «я поеду в одной коляске с тобой! Буйволы ли нас понесут, кони ли или на носилках понесут с поля боя соодаты, я еду к тебе на квартиру, немедля, прямо сейчас!» — настаивала Наташа.
Когда же войдёно было в подъёзд, она впервые обратила внимание на огромную оловянную буйволову седмицу, обрамвлявшую косяк марининой двери…
Левый глаз ея был испещрен какими-то таинственными письменами, а правый весьма походил на подгнившее зеленое яблоко с черенком, торчавшим прямо наружу.
Читать дальше