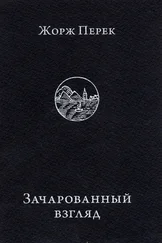Наконец, у писателя Перека нет даже простого умения писать: он с детства, и очень долго, страдал дислексией и аграфией. Вообще проблема связности, последовательности, целостности написанного оставалась для него травматической всю жизнь. Таковы его детские каракули и рисунки, но таковы и его воспоминания: «<���…> беглые или стойкие, ничтожные или неотступные, воспоминания существуют, но ничто не сплачивает их в одно. Они напоминают то бессвязное письмо из отдельных букв, неспособных соединиться друг с другом и составить слово, которым я только и владел до семнадцати-восемнадцати лет, или те обрывочные, разрозненные рисунки, отдельные части которых почти никогда не сливались и которыми <���…> я в возрасте примерно между 11 и 15 годами испещрял целые тетради. Что прежде всего характерно для той-эпохи — это отсутствие опор» (W, 93) [27] Последние приводимые слова, вынесенные и в заглавие данной статьи, — цитата из автобиографической книги Робера Антельма о выживании в Бухенвальде «Род людской» (1947). Она сыграла большую роль во французской культуре после войны и была чрезвычайно важна для Перека, потерявшего в лагере мать, — об этом он говорил в речи «Возможности и границы сегодняшнего романиста», см.: ParcoursPerec/ MireilleRibiereed. Lyon: PressesUniversitairesdeLyon, 1990. P. 31–40.
.
Обрывок, обломок, одиночная запись, номенклатурный перечень увиденного или припомненного, монтаж разрозненного — такова сама паратаксическая манера Перека думать и писать, которой, в конце концов, придано качество жанра. Таков его фрагментирующий подход к языку, к любому связному тексту (от отдельного слова до целого романа Стендаля или Жюля Верна, Флобера или Русселя, либо до фильма Эйзенштейна или Вайды): они в порядке игры демонтируются на части вплоть до мельчайших — слогов, звуков или букв, из которых затем наново собирается нечто иное. Таково его бытовое коллекционерство обожателя барахолок, транспонированное, начиная с дебютного романа «Вещи», в настойчивый повествовательный шозизм. Такова его страсть к фотографиям вещей, интерьеров, городских видов. Сделаны ли они самим писателем или друзьями по его заказу, под его замыслы, фото, как правило, дотошно фиксируют места и следы жизни людей, но чаще всего поражают отсутствием самого человека, ощущением заброшенности и, как ни странно выглядит это слово применительно к вещам, одиночеством: даже самые обиходные подробности здесь как будто уже помещены в рамку утраты. Особенно выразительны в этом плане фотозаготовки тунисского эпизода к экранизации (несостоявшейся) романа «Вещи», к замыслу «Места», а также фотоматериал к фильму «Рассказы об Эллис-Айленд» и фотоиллюстрации Кристины Липинской к автобиографической книге «гетерограмматических стихотворений» Перека «Закрыто» («La Cloture», 1976; речь идет о местах в Париже, которых больше нет и которые заслонены позднейшими постройками или скрыты позднейшими строительными заплатами).
Исследователи предметного воображения в литературе интерпретируют подобные особенности оптики как симптомы аутизма [28] Durand С. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: P.U.F., 1960. P. 210.
. Свою трактовку связи между названными мотивами — поглощенности поисками места, нагромождения разрозненных вещей и общей безлюдности мира — предложил психоаналитик Жан-Батист Понтали. Он буквально по живым следам описал «случай» Жоржа Перека под анаграмматическим именем Пьера Ж. Память его пациента «стремилась перенестись в те или иные места, углубиться в них, одержимая страстью захватить их врасплох, как падкий до сенсаций фотограф или бдительный судебный исполнитель. Пьер описывал улицы, на которых жил, каморки, в которых обитал, узор их обоев, рисунок оконной решетки, расположение мебели, форму дверной ручки, а во мне от его маниакальной инвентаризации, бесконечного перечисления, которое не должно было упустить ни единой мелочи, рождалось острое чувство пустоты. Каморки, которые перечислял Пьер: чем теснее они у меня на глазах наполнялись вещами, тем более нежилыми они мне виделись; чем точнее делалась топография, тем шире разрасталось запустение; чем больше названий появлялось на карте, тем безгласнее она становилась. Там никого не было <���…> Мать Перека погибла в газовой камере. И за всеми этими пустыми каморками, которые он без конца наполнял, стояла та камера. За всеми названиями — не называемое. За всеми реликвиями — потерянная мать, от которой в памяти не осталось ни черты <���…>» [29] Ponlalis J.-B. L'Amourdes commencements. Paris: Gallimard, 1986. P. 66–67.
. Добавлю, что заветного, искомого писателем места — могилы его матери, бесследно исчезнувшей в Освенциме, — не существует, как не существует на земле и места ее рождения: ни малейших примет жизни своих родителей Перек в Польше не обнаружил. И они сами, и воплощенная — вещная ли, словесная ли — память об их существовании начисто стерты историей XX века.
Читать дальше
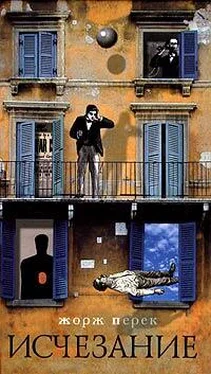
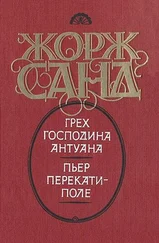
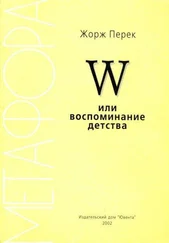
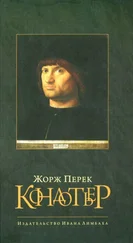
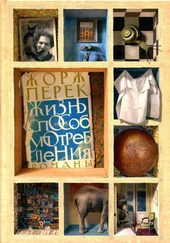

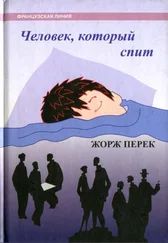
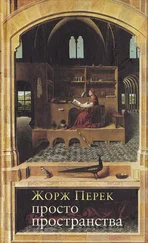

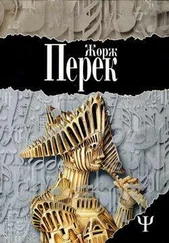
![Жорж Сименон - Ночь на перекрестке [Тайна перекрестка «Трех вдов»]](/books/414651/zhorzh-simenon-noch-na-perekrestke-tajna-perekrestk-thumb.webp)