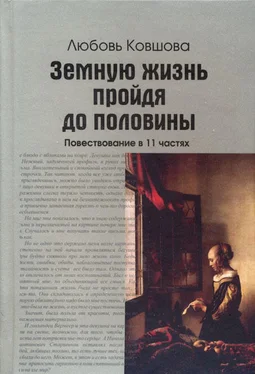Но обида была одной стороной чувства, одолевавшего меня. Второй являлось тяжелое недоумение: как это вообще можно — поменять Родину? И что за дикое понятие «историческая родина»? По извращенной этой логике, продолжая ее, всехняя историческая родина находилась в Африке на деревьях.
Нет, ничего я не понимала в еврейском вопросе. Я и еврея-то от нееврея отличала, только если знала о ком, что он — еврей. И то, знание это ничего не давало.
Ну, был мой школьный учитель Натан Вульфович Марьяхин евреем. И что? Обычно тихий, задавленный скандальной женой человек с печальными глазами, он преображался на уроках и держал нас в узде исключительно своей любовью к математике и нашим к ней интересом, который он как-то незаметно для нас в нас же и воспитал. Учеников Натана Вульфовича отличали в областном центре на глазок. А сам он не гнался за славой, бубнил и бубнил на уроках про углы, хорды, дуги, касательные, про синусы-косинусы, про логарифмы, про Пифагоровы штаны, что во все стороны равны. И все они, абстрактные величины, послушно ходили перед ним на цыпочках, поворачивались так, как он хотел, становились понятны и близки. Очередной класс увлеченно учился дрессировать их.
Сенечка Ройтман, мой нынешний одногруппник, толстый дурошлеп, изображал из себя древнего еврея, начиная фразы оборотом «мы, евреи…». Например: «Мы, евреи, не знаем, как перевести этот текст». Или пошире: «Мы, бедные евреи, не имеем шпор по теормеху, дайте попользоваться».
А Сашка Левич был просто обалденный парень, веселый, заводной. Про него я как раз не знала, что он — еврей.
Да я никогда и не интересовалась, кто есть кто. О том, что мой будущий муж — русский, я узнала только из заявления в ЗАГС, где требовалось указать национальность. Но это не имело ровно никакого значения. Люди для меня делились просто на наших и не наших. Другого деления я не представляла. И какому-нибудь генералу Власову отказывала в праве быть русским, потому что он был шкурник и предатель, человек того сорта, у кого ни родины, ни национальности.
Но вот совершенно наш Сашка Левич оказывался не нашим всего потому, что был евреем. А значит, и Натан Вульфович, и Сенечка в один прекрасный момент тоже могли стать не нашими, а неизвестно какая Оксанка, выросши, могла оказаться еврейкой и плюнуть на нас хотя бы ради прописки в Москве.
Но так думать и жить, подозревая людей вокруг, я не то что не хотела, а не могла. При таком взгляде привычный мир начинал двоиться, расплываться, терять очертания, от чего к горлу подступала тошнота.
И только хлипкая Эсфирь стояла, как надолба, в этом расплывчатом мире. Она опровергала подобный бред самим своим существованием, даже не подозревая, что что-то там опровергает. Не до того ей было.
К середине марта из какого-то африканского посольства привезли двух маленьких негритят с тяжелейшей пневмонией. Еще в приемной Эсфирь Наумовна чистила их родителей в хвост и в гриву. Правда, без мата, старалась быть дипломатичной:
— Тупые вы, негры! Позапрошлый год вам говорила: «Не возите мальчишку в Москву», — а вы второго притащили. Вы русский язык понимаете?!
— Мы русский язык понимаем, — старательно отвечал на риторический вопрос папаша-негр.
— Ни хрена вы не понимаете! Не климат им здесь. Вы, кретины, хроников из них сделаете. Понимаете, что я говорю?
— Мы понимаем, что вы говорите, — вежливо отвечал негр.
— Мы понимайт, — вторила ему жена.
Потом они шли по дорожке мимо отделения, грустные, высокие — и он, и она под два метра, в меховых шапках на курчавых головах, в одинаково элегантных светлых дубленках. Я смотрела на них в окно, улыбалась, представляя, как маленькая Эсфирь, не достающая неграм до подмышек, яростно напрыгивает на них, думала, что она опять права, на улице плюс, а неграм не климат, им холодно и неуютно, и жалела негритят, лежащих в соседнем боксе.
Негритята еще долго были самые тяжелые в отделении, и Эсфирь возилась с ними с утра до ночи, пока они не пошли на поправку. К нам в это время она заглядывала только на обходе, слушала детей, хвалила: «Молодцы!» — и отправлялась к своим негритятам.
Стыдно сказать, но я ревновала. Мне казалось, что ее больше не тревожит судьба Оксанки, не интересуем ни малыш, ни я. Но, как всегда с ней, я ошибалась.
Как-то синим весенним вечером, когда тоска особенно перехватывает горло, она вызвала меня к себе.
— Я тут бумагу в горком партии состряпала. Ты тоже напиши. — Голос у нее был усталый, словно выцветший.
Читать дальше