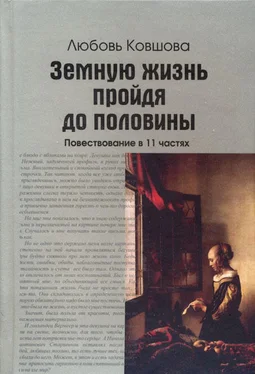Потом похороны и после них пустой, сразу просторный и нежилой дом, в котором только я и мама. За окнами длительные закаты бездождливого, словно застрявшего посередке лета. Капли из рукомойника. Тоска.
Долго мы с мамой не выдерживаем и уезжаем к родственникам в Москву.
А ты на похороны не приехал. Видимо, формулы: «Что бы с тобой ни случилось…» для тебя больше не существовало.
Москва парилась в июльской духоте, зато метро продувал сквозняк. И хоть он был механического происхождения и слегка отдавал резиной, железом и машинным маслом, все-таки дышалось не то что наверху. Я не торопилась туда, и вообще не торопилась. Поэтому и увидела Любу.
Это ж надо, из необозримого в Москве множества людей случайно пересечься именно с тем, с кем меньше всего бы следовало пересекаться!
В переходе с Белорусской-кольцевой на радиальную она стояла, прислонясь к прохладной мраморной стене, кого-то ждала.
— Привет! — сказала я.
Она удивленно вскинула летящие брови. Видно было, что у нее не совместился двухлетней давности образ драного подростка с тоненькой москвичкой на шпильках.
— Не узнаешь? — спросила я.
— Любка?!..
Ровно гудело метро, и даже слышные поезда с кольцевой только упорядочивали шум вентиляторов, шагов, потрескивания ламп, и казалось, разговор не клеится из-за этого укачивающего шума. А скоро он и вовсе иссяк. Я сделала вид, что спешу, и распрощалась. Но, поднявшись на эскалаторе, долго стояла в верхнем зале перехода у скульптуры белорусских партизан, смотрела в их суровые бронзовые лица и медленно осознавала Любины слова о том, как после телеграммы о похоронах ты сказал: «Мне надоели ее капризы.» Осознавала и не могла осознать.
Даже сейчас помню свое недоумение. В услышанной от Любы фразе не сходятся содержание и форма. Надо быть душевно глухим, чтобы в один ряд поставить «смерть» и «каприз». Это не мог сказать ты.
И там, возле белорусских партизан, я думаю, что Люба спутала: фраза звучала иначе. Но мне и в голову не приходит, что никакой фразы могло вовсе не быть.
Проходит лето, осень, и опять уже зима.
Я учусь на инженера-физика, хожу по театрам: Большой, Малый, МХАТ, Вахтангова, Таганка, «Современник», по концертам, то на устные рассказы Андронникова, то на серьезную музыку, бегаю даже на свидания. В дневнике: «Развелось поклонников. И зачем?!»
Приезжают твои друзья. Приезжаешь ты, к счастью, меня нет в Москве. Приходят письма. И вызывают в памяти опустевший дом с равнодушным бульканьем капель на кухне. «Забудь и не пиши, я не отвечу», — вот все, чем могу тебе отозваться.
«„Не пиши“, но я все-таки пишу. Просто хочется тебе написать. Жизнь идет кудрявая, пьем каждый день. Несмотря на это, я написал несколько вещей. Одна — твой портрет. Это, как я считаю, лучшая изо всех работ, которые я сделал за 22 года. Возможно, и за всю жизнь. Ее хочу тебе подарить. Если сможешь, приезжай в Смоленск. Если захочешь. Приедешь — хорошо. Нет — ну что ж…»
Московская слякотная зима тянется к середине. Живу как-то вообще. Спокойно и безрадостно.
И вдруг накатывает. Не так, как перед смертью отца, но похоже. Однако теперь я твердо знаю, что это касается тебя. Непонятно откуда такая уверенность, но я не ошибаюсь.
К вечеру скручивает совсем. Я сдаюсь и последним поездом еду в Смоленск.
Это был в любую погоду пасмурный наш коридор. И наш подоконник. И белье на веревках за окном. И декабрь. Только оттепели не было, и белье на морозе стояло колом.
— Кстати приехала, — сказал ты, глядя мимо меня в окно.
— Почему кстати? — спросила я.
Ты отвел глаза от окна:
— У меня ж сегодня агромадный праздник. Женюсь. Ты разве не знала?
Так вот что вчера весь день выматывало душу, а ночью погнало в Смоленск.
Нет, я не знала.
— На ком? — спросила машинально.
— Да есть здесь одна шлюха, — нажимая на слово «шлюха», сказал ты, и внимательно посмотрел мне в глаза.
Ах, как тебе хотелось, чтоб мне было больно!
И, надо сказать, небезуспешно.
Нет, я не ревную тебя к той косенькой за свадебным столом. Я ее жалею за всю будущую несчастную жизнь. Глупая дурочка, которой не объяснили, что нельзя брать чужое. А ты и тогда и потом — только мой.
Я не ревную, но у меня все болит внутри оттого, что она невестой сидит возле тебя.
И, как всегда, когда мне очень плохо, я иду вразнос.
Два граненых стакана водки при весе в сорок килограмм, на голодный желудок и без закуски («Мифисты после первой поллитры не закусывают!»), как ни странно, не валят с ног. Правда, все куда-то плывет, зато я прихожу в отчаянность. Меня несет пьяная бесстрашная волна.
Читать дальше