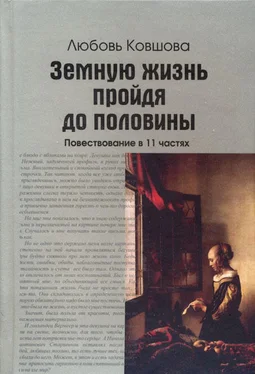Какие смешные открытия бывают в жизни!
Оказалось вдруг, что я могу нормально жить только потому, что ты есть на свете, и все мое благополучие, включая семью и работу, держится на той тонкой ниточке между тобой и мной.
Она оборвалась, и рухнуло все.
Спасая, пришло неверие. Нелепое письмо с оборотами вроде: «…извините за наше вторжение, может быть, оно и не к месту…» стало казаться одной из твоих вечных шуточек.
А что? Ты мог.
Я даже представила, как ты, задумываясь на минуту, прикусываешь губу, затем усмехаешься и диктуешь очередную высокопарную фразу почти из девятнадцатого века. И причину нашла. Я была в отпуске в твой последний звонок, а тебе на переговорном сказали: «Абонент не явился». И, что письмо писано якобы в годовщину смерти, объяснила: а вдруг бы я приехала?!
Я убедила себя, что письмо — это розыгрыш. Грубый, безжалостный — пускай! Зато стало можно жить.
И снова услышалось, как сползает с крыши мокрый снег и пахнет во дворах оттаявшая прогалами земля.
И письмо в Тамбов я послала тебе.
Я жду письма, как ждут, наверно, чуда.
И верю, верю, сердце разодрав, —
Придет конверт и выпадет оттуда:
«Я жив,
я пошутил
и я не прав».
Но выпало другое.
Прекрасно-нервное лицо смотрело на меня с карандашного портрета размером с открытку. Оно было все то же, что и раньше. Только слишком тяжелые тени обводили глаза и скулы, да легкая прежде усмешка знакомых губ стала жестче. И еще была она горькой-горькой, словно ты насмехался над собой.
«Дорогая наша незнакомая Любовь, — было в письме. — К несчастью, это правда, невыдуманная, нелепая, безвременная…»
Тут что-то случается у меня со зрением. Буквы не резки, плывут, я их почти не вижу.
«Он заболел в воскресенье… в понедельник наши пошли вечером… дверь была заперта, окно… темным… ждали жену… он лежал, — я напрягаю глаза до крайности: — он лежал на полу в неудобной позе около двери на балкон, но не по направлению к ней, а поперек… Жена объяснила, что вызывала врача, но это не подтвердилось… Чего от нее ждать, она самая что ни на есть пьянь, синюшная вся… Кто знает, сколько он так лежал…»
Дальше я уже ничего не вижу совсем.
Иногда мне приходит в голову, что я, как те атланты, держу на плечах мир. И стоит схалтурить, попустить себе, как все обрушится.
«Если б было надежнее рук твоих кольцо», — повторял ты мне когда-то. И опять был прав. Это я отпустила нитку, когда не отозвалась на твой звонок. Когда он был? Год — полтора — два назад? И никакая перестройка, корежившая тогда страну и жизнь, меня не оправдывала. Мы ведь за все отвечаем сами. Я отпустила — ты умер.
Я зачем-то пишу всем нашим с тобой знакомым, даже Любе, она, правда, не отвечает, отправляю в Тамбов деньги на цветы, а в Тамбовскую милицию официальный запрос о тебе, читаю твои письма, записки, куски дневников, в которых еще мелькает «лопоухий мальчишка, что любил рисовать зверье и птиц».
Лихорадочная деятельность. Я словно пытаюсь удержаться на краю. И не могу. Как в той давней ссоре, я чувствую, что меня нет. Что-то умирает во мне.
Как оно было раньше?
То, чего не хватало в реальности — счастья, безоглядности, полета, — дополнялось внутри. Там существовал целый мир, сплетенный из вымыслов, воспоминаний, чувств, вызванных чем-то прекрасным: будь то строчка стихотворения или вперебой стучащая капель, сочетание красок в закате или на полотне, музыка, стриженый ребячий затылок под рукой… Да мало ли из чего он сплетался!
Но его, как и тебя, больше нет.
«Душа не выстрадает счастье, но может выстрадать себя…» А может и надорваться…
Мартовские, напоенные водой ночи темны даже в городе. И я почти натыкаюсь на этих двоих, стоящих в обнимку посреди лужи.
Но что им до лужи?! И до случайной меня?! Так отрешенно они замерли. Так бережно паренек прижимает к себе девочку за узкие лопатки. И — вся порыв! — так тянется она на цыпочках, чтоб не разошлись руки, закинутые ему за шею.
Они не целуются, просто стоят, составляя одно целое.
И, боже мой, как щемит у меня сердце при виде этих городских озябших воробьят, у которых еще меньше надежды быть счастливыми.
Ну, что я могу сюда добавить: будьте благословенны! Только любовью держится наш взбесившийся мир, и она бессмертна. Кто-то да выстоит, не мы, так другие.
Тебя больше нет. Люба благопристойно преподает что-то из живописи. А я пишу и пишу свою повесть, к которой невозможно найти названия.
Сколько их перебрала, и ни одно не подошло. Не считая знаменитого «Ты и Я», их было около десятка. От скучного «Один год и вся жизнь» до красивого, аж тошно, «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу».
Читать дальше