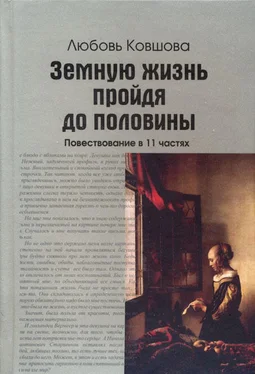А основное — отношения с одноклассниками, учителями и просто знакомыми, количество которых росло со скоростью снежного кома в сырую погоду. Время влюбленностей, разочарований, неожиданных, опрометчивых, а то и просто нелепых поступков.
Вот после ситцевого бала в школе меня, восьмиклассницу, провожает до бабы Таниного дома десятиклассник Андрей. Мне хорошо и даже как-то значительно: все-таки Андрей — выпускник. Но у дощатой калитки, врезанной в тяжелые сосновые ворота, он пытается не то обнять, не то поцеловать меня. И я не знаю, как так выходит, что со страху я стукаю его всей массивной створиной ворот, еще не запертых на ночь, и мчусь, словно спасаясь, через калитку во двор, на крыльцо, через сени в свою угловушку.
Дня три после Андрея нет в школе, на четвертый мельком вижу его в раздевалке с фиолетово-желтыми, спускающимися из-под глаз на скулы, синяками. Мне чудовищно стыдно, но поправить ничего нельзя. А жизнь несет дальше, закручивая в суматохе дел и впечатлений.
Самый, наверно, насыщенный — девятый класс. Главное — нас принимают в комсомол. И мы целую длинную октябрьскую ночь бродим по спящему Гжатску, по его россыпям еще золотых березовых монет и поем сперва хрипловатыми от волнения, а под конец по-настоящему охрипшими от песен голосами. Тут и:
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной —
Только так можно счастье найти…
И:
Там вдали, за рекой засверкали огни,
В небе ясном заря догорала;
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала…
И:
Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет…
И «Дан приказ ему на запад…», и «Песня о Щорсе», и «Наш паровоз», и «По военной дороге шел в огне и тревоге боевой восемнадцатый год…» — всех не вспомнить.
Песни словно приобщают нас к высокому, торжествующе-героическому, причисляя нас к нему, поднимают на уровень подвига Павки, Зои, Гастелло, Матросова. И это — счастье и готовность умереть за него.
И какой тут Минька мог быть мне интересен?! Я и не помнила о нем.
Меня выбрали комсоргом нашего 9 «а». И это обязывало. Заранее готовила своих пионеров в комсомол. Собирала номера в новогоднюю программу, кого уговаривала, кого заставляла. Носилась на переменах по школе, как сумасшедшая, вспотевшая и растрепанная. И ко всему прикладывалось постоянное ожидание чего-то необычайно радостного впереди. И оно удивительным образом сбывалось.
На Новый год я получила в школе первый приз за костюм астронавта. А в апреле в космос полетел Гагарин. Наш Юра! Из нашего маленького Гжатска! И, что еще важней, из нашей школы! Конечно, он был старше нас, но мы были с ним в какой-то степени одно — комсомолия, и его подвиг ложился на наши пятнадцать лет горячим отсветом сопричастности и восторга.
И полет Гагарина, и приезд его к нам в школу заслонил собой все остальное до конца девятого класса. Единственное, что еще помнится, это мои пионеры, потому что это тоже была радость. Теперь они все мечтали о комсомоле. Даже Иванченков, самая несознательная дубина среди моих подопечных, в тринадцать лет выше десятиклассников и шире их в плечах, и тот после полета Гагарина притих: почти перестал безобразничать и драться по любому поводу, стал делать кое-какие уроки и учить комсомольский устав. Таким счастливым, особенным, неповторимым в своем юном восприятии счастья остался в памяти девятый класс.
Десятый был совсем иным, наполненный болезнями и неприятностями.
Аппендицит с мучительно тяжелой операцией, с бешеным до срыва криком хирурга на мать, не сказавшую, что на меня почти не действует местная анестезия, потом целая вереница простуд и ангин с непременной температурой за сорок. И так всю зиму.
В редкие перерывы появлялась в школе несколько одуревшая от тихости больниц и дома и никак не могла попасть в бурный школьный ритм, отчего получался душевный раздрызг и было неуютно ни там, ни там.
Когда наконец оклемалась, была уже весна, солнце, прозрачная зелень берез, духовой оркестр на танцплощадке городского парка.
Там, у танцплощадки, где оркестр изводился томительным аргентинским танго, почти выговаривая слова:
«Вдали погас последний луч заката,
И сразу темнота на землю пала»,
встретился Иванченков. Пока я болела он стал еще громадней, и ломавшийся раньше голос уже уверенно грубил.
Читать дальше