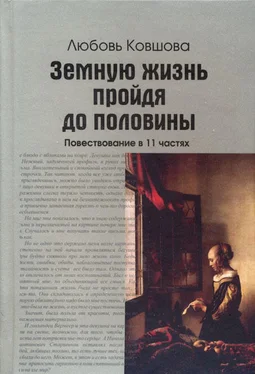Отец Миньки умер, когда мы заканчивали седьмой класс. На широком школьном дворе, пропахшем птичьим запахом детских голов, чуть привялой черемухой и зацветающей сиренью, отзвенел последний звонок. Мы бегали на консультации и после за косоватым столиком в саду, все так же легко шумящем вокруг школы, не столько готовились к экзаменам, сколько взахлеб обсуждали будущее, которое виделось неизъяснимо прекрасным. А я про себя думала, что будет оно таким еще и потому, что умер Кудряков — последний «якобы коммунист».
Однако при всей молодой жестокости Миньку жалели. Он ходил со щелочками ничего не соображающих глаз, и мы с подругой решали для него задачки на экзамене по математике. А на изложении, из которого запомнилась всего одна фраза: «Из броневика вышел человек в черной коже», за спиной у Миньки стояла Евгения Федоровна, подсказывала.
Потом был выпускной — совсем взрослый праздник: с новым, шитом специально для него платьем, голубым, как летнее небо, украшенном белейшим воротничком; с общей фотографией на фоне бревенчатой школьной стены, затянутой белой простыней, где все мы, девять выпускников и наши учителя, целеустремленно смотрели в камеру; с праздничным столом, на котором стояло даже вино, по-деревенски называемое красненьким; с патефоном и танцами; с первым медленным, по самой длинной дороге провожанием домой, меня — Володькой Новиковым из Костивцев по прозвищу «А бара я-а-а-а…», что переводилось нами как «Бродяга» и пришло из индийского фильма.
Нам было почти по четырнадцать, и мы считали себя совсем взрослыми. Наверно, потому так легко говорилось о недавнем, но уже детском. Как на попутном грузовике везли из Гжатска подарок любимой Евгении Федоровне — духи и одеколон «Пиковая дама» в иссине-черной с золотом роскошной коробке, как, спрыгивая с кузова, уронили коробку, так что вдрызг разлетелись и духи и одеколон. Как субботними осенними темными или зимними вечерами кто-то шарахал колом снаружи по стене нашей избы, и отец, весь нараспашку, вылетал на крыльцо ловить хулигана. А я потихоньку смывалась из дома, потому что это Володька вызывал меня в кино. И сколько его было такого, теперь уже прошедшего навсегда! И ощущение было тоже, что прощаемся навеки.
Впрочем, так оно и вышло. Я поступила в восьмой класс в Гжатске, а Володьку отправили учиться на автослесаря в Вязьму, и больше увидеться нам ни разу не довелось.
Зато с Минькой мы постоянно пересекались еще целых четыре года, пока я не закончила одиннадцатилетку. Он учился там же в Гжатске в фабрично-заводском училище, а кратко — ФЗУ. Горбатая, фэзеушная шинель делала Миньку квадратным, и в последнем ряду колонны он был особенно заметен. Наверно, он понимал свою неприглядность и при встречах смотрел на меня зверем. Когда же приходилось встречаться один на один вслед мне придавленно звучало какое-нибудь матерное, похабное слово.
Однако мне было ни до него. Летели осени-зимы-вёсны в обилии тревожных осенних красок, в снегах по самые заборы, в лужах и первой зелени трав, кустов, деревьев, и вместе с ними: новые книжки, читаемые взахлеб собраниями сочинений, благо в городе имелось четыре нечитанных библиотеки, отстаивание себя в новом, совершенно не похожем на деревню, мире, и уже только потом — друзья, что на всю жизнь.
Одноэтажный городок был забит под завязку впечатлениями, происшествиями, новостями, событиями. Сначала житье в угловушке на квартире у молчаливой и мрачной бабы Тани, где зимой по углам выступал и не таял иней, одиночество и полная свобода, от которой сладко кружилась голова, но было неизвестно, что с ней делать. И чтение до тех пор пока сами неразлепимо смыкались веки; и шатание по вечерним или даже ночным улочкам, закоулкам и тупикам то с темными, то с освещенными изнутри медовым светом окнами, в которые так хотелось заглянуть; и необязательность делать уроки — все было здорово, и все же какой-то неясный пробел ощущался в моей тогдашней жизни и томил душу.
Впрочем, он скоро исчез без остатка, заполнившись школьными делами. Тут была и организация вечеров, и пионервожатская работа. Разного рода кружки: от радиоконструкторского до драматического, где я бессловесной партизанкой гордо падала от немецкой пули на кучу грязных мешков, изображавших землю. Собирание макулатуры и металлолома, и катание классом с горок над Гжатью на саночках, изъятых у малышни под металлолом. Субботники и классные собрания. И танцы по теплому времени в парке, а зимой в ДК и тогда же каток под заиндевелыми ветвями деревьев. И беганье на каждый новый фильм в старую церковь, переделанную под кинотеатр, со множеством ворон на ржавом куполе.
Читать дальше