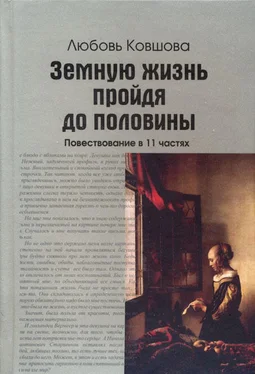Помню, стояла осень с черной примороженной землей, но еще без снега и пахла свежеоструганным деревом. Вдоль серой по-осеннему деревенской улице резко белели новенькие столбы с четкой линей проводов между ними и фарфоровыми чашечками изоляторов на самом верху. У нас в деревне проводили электричество.
Как сейчас вижу: двое городских монтеров тянут проводку в нашей избе, громко стукают молотками, переговариваются, балагурят с отцом, потом сворачивают на Сталина.
Хоть убей, ни одной фразы тех монтерских речей не восстановлю. Лезут в голову только цитаты. Одна из какой-то самострельной песни:
А в октябре его маленечко того,
Тогда узнали мы всю правду про него,
Что он марксизму нарушал,
Что многих жизни порешал
И в лагеря отправил всех до одного.
Другая из Галича:
Оказался наш отец
Не отцом, а сукою.
Но обе они годов из студенческих, шестидесятых, то есть много позже. И все-таки в незапомнившемся те же интонации и смысл. Одно отцовское поперек:
— О больших людях не по тому надо судить.
Я, уже пятиклассница, но все еще очень мелкая, делаю уроки в соседней комнате и все слышу через открытую дверь. От того, что говорят, у меня ощущение чего-то постыдного. Оно растет, усиливается, делается непереносимым. Я бросаю ручку, так что на тетрадный лист летят хвостатые фиолетовые кляксы, и выскакиваю в комнату, где разговор.
Сцену, что там происходит, представляю сейчас совершенно отчетливо, только будто со стороны.
Тощенькая девчонка с косицами в бантиках и ростом в метр наскакивает на двух взрослых мужиков, хватает их за полы телогреек, тянет к дверям, пронзительно кричит:
— А ну, уходите! Я веником сейчас! Дураки, контра ползучая!.. Пап, ты что?! Скажи: пусть уйдут! Сейчас же!
Мужики обалдевают:
— Чегой-то она? Вишь вытворяет.
— Петр Иваныч, усмири соплюшку.
Но отец усмехается и ничего не говорит. Он, видимо, понимает — чего я.
Зато я не понимаю и до сих пор не очень.
Отношение к Сталину в доме и в деревне ровное, никакого преклонения или, как позже назовут, культа. Ни портретов, ни особых разговоров. Отцу он вообще «товарищ Сталин», то есть, просто товарищ по партии. Отец не видит большой разницы между ним и собой — они делают одно дело, каждый на своем месте.
Деревня же относится несколько иначе.
Буквально на днях слышала частушку. Их теперь редко услышишь, но бывает в сильно немолодых, пьяных компаниях:
В телевизоре несется
Всякая охалина,
Что мы Путина полюбим,
Как родного Сталина.
Нет уж, никого и никогда!
Но именно так, как родного, как своего воспринимает Сталина деревня.
Но родной и свой — не обязательно добрый или хороший. Свой и всё, какой есть. Главное, для страны радеет, а не себе и не чужим. Хозяин. И ему верят.
А вообще-то о политике в деревне говорят и думают мало. Дел и так выше головы, собственное хозяйство, не вполне оклемавшийся после войны колхоз, так что работа с темна до темна.
Однако же поношение Сталина задело деревню, хоть разговоров особых не было. Всего раз слышала на крыльце правления:
— Да уж, Сталин известно… — начал Минаев, который и до пятьдесяти оставался в деревне Пашком.
— Цыц ты! — оборвал его родственник и ровесник дядя Миша Куманьков.
Остальные мужики не вмешались, молча курили, и запомнилась только угрюмость на лицах.
И именно во времена гласного разоблачения культа я окончательно поняла, что Кудряков-старший — никакой не коммунист.
В тот день в школе мы почему-то дежурили в паре с Минькой. С утра стояли на крыльце, проверяли чистоту рук и воротничков, заставляли обметать валенки от снега. На переменах следили за порядком в коридоре, все-таки мы уже считались старшими. А после уроков убирали свою классную комнату. Минька двигал по очереди ряды парт и вытирал пыль, я мыла полы.
Я домывала последний ряд у окна, когда Минька, протиравший на противоположной стене стёкла на портретах не то членов политбюро, не то героев гражданской войны, злорадно сказал:
— Коммунисты грёбаные! Только людям жить не дают. Так им и надо с ихним Сталином! Правильно это батька тогда после собрания сказал.
Прямо с тряпкой в руках меня перенесло через три ряда парт, и этой мокрой, грязной, из грубой мешковины тряпкой я врезала Миньке по расшлепанным губам, и еще, и еще…
Домой я вернулась с подбитым глазом, но непобежденная и с открытием, что коммунисты — это мой отец, Иван Волков, дядя Миша Куманьков и другие, а Кудряков — только так называется. Это было и осталось совершенно ясным и неопровержимым, поэтому два года спустя так удивило отцовское: «Проглядели».
Читать дальше