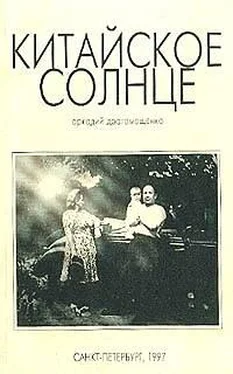И все же как отвратителен запах задохшихся роз.
Не косвенность — зрение, коснеющее на никогда не преступаемых подступах к вещи, в каком бы "есть" она ни скрывала своих границ.
Через час Диких лежал на матрасе. На полу перед ним стоял телевизор. На экране плыло облако, которое плыло за окном, проплывавшим по стеариновой плоскости стекла, коснеющего в пределах допущенного перемещения представлений. У двери на полу звонил телефон. Диких на звонок не оборачивался. Я тоже не обернулся, я думал об университете и вселенной. О. Лоб внимательно следил за фотографией и за тем, как на ней разворачивается действие. Он водил пальцем, шевелил губами и иногда неслышно, про себя, восклицал не особо внятные для кого-либо из окружающих слова. Карл уходил дальше по пустыне, умещавшейся в невообразимо тонком прикосновении иглы или числа (идеальная пустыня располагается всегда позади), и его тело, распростертое на пропотевшей простыне, которую никто ему не менял два месяца кряду, иногда передергивала невесомая судорога.
— Над ним плывут облака, — сказал о. Лоб.
— Что-то в нем покуда еще связано с чем-то, — сказал он спустя время.
Мы говорили о поэзии по той причине, что в ней уже не было ничего связанного ни с чем, она представала чистой областью разреженной отвлеченности. Границы ее пульсировали, но за ними ничто не обретало очертаний. Облака опускались к склонам. Говорить о поэзии было занятием, исполненным глубокого значения по той причине, что смысл ее никоим образом не переходил ни в какое действие, пульсировавшее ее границами.
Белые облака неслись с грозной силой по ослепительно синему небу. Мы завороженно смотрели на картинку. Она укрупнялась. Зерно ее разрасталось, в поры радостного, как узнавание, разрушения проникали споры других изображений, принимавшихся рассеивать возможные облики, но то, что должно было за ними следовать, заведомо отставало. В отмытом промежутке Кирпичный переулок словно вымер от зноя. Резкий, нестерпимый свет заливал каждую выбоину на стенах и трещину на асфальте. Из стен и мостовой росла белая трава. Мы увидели, как Диких увидел себя, идущего по переулку. Потом он стал тем, кто шел. Пользы в том не было никакой.
Он шел к окну, где когда-то сидел ребенок; нет, не ребенок, — урод, старик… нет, не старик, но, скорее, ребенок. Окно было закрыто. В зеркальных стеклах стремительно летели те же облака по темному от зноя небу. Диких наклонился к стеклам и сквозь ожившие потеки синевы стал медленно различать внутренность комнаты.
Она была уставлена коробками, подле второго окна на штативе стояла видеокамера. На матрасе у стены кто-то лежал. Перед лежавшим стоял телевизор. На экране стремительно падали облака, за которыми восходило в упоительную темную бездну небо.
— Тебе никогда не узнать, сколько гитик умеет наука, — послышался голос.
— Это Карл, — предположил о. Лоб.
Я не ответил. Построение каждой поэтической конструкции открывалось мне созданием прецизионной механики восприятия некоего явления, называемого поэзией, располагающейся в области реального. Она — органы, разворачиваемые вовне.
Голос рассудительно продолжал:
— В наши дни, когда время затаилось в домах, как песок после урагана, изнемогая во снах, я тоже хочу ответить на вопрос о состоянии оконных рам, городского транспорта и миграциях водорослей. Я также ставлю вопрос об изменении маршрутов птиц, но я не знаю, где мои, а где не мои ответы. Важно также понять, чем отличаются деньги от, например, слов или мяса.
В комнате за окном зазвонил телефон. Лежавший на наших глазах протянул руку к трубке.
— Не подымай, — произнес Диких и проснулся от звука собственного голоса.
Мы молчали. По его лицу тек пот. Кто не знает жаркого лета в Петербурге. На экране телевизора мерцал "снег". Кассета кончилась.
Диких поднялся с матраса, подошел к кухонному шкафу, открыл дверцы. Под самый верх там лежали плотно уложенные пачки купюр. Диких открыл коробку. В ней тоже оказались те же деньги. Одинаковость.
— В итоге удовольствие исключает возможность радоваться, — сказал Диких и ухмыльнулся пробежавшему по квартире эхо.
— Это моя квартира, — сказал я. — Мне не нравится, когда кто-либо забирается в мою квартиру без моего ведома.
О. Лоб, глядя вниз на Сенную, нахмурился, но не нашелся что сказать. В медленном удвоении наших образов во времени я распознавал во многом неясную, но определенно знакомую мысль о том, что нет ни одного действия, которое возможно было бы рассматривать как даже частично лишенное значения. Как бы нелепо оно ни было, ни казалось, какими бы чудовищными по своей невразумительности причинами ни определялось (причины также являются одним из факторов, якобы должных лишить действие его очевидности), оно в мгновение ока наполняется смыслом, подобно щепкам, попадающим в поток воды и тот же миг принимающим его направление, его скорость, под стать слову, которое обречено на restitutio omnium в миг собственного явления. Возможно предположить мгновение возникновения "первого" слова, возникновения до "всех возможных дальнейших", но тогда вполне вероятно также допустить, что оно содержит значения всех будущих либо отсутствие будущего как такового, так как совершенно в своей воображаемой, конечной пустоте. Идея слова, которое ничего не значит, которое не является ничем, даже самим собою, подобно идее универсального языка не оставляла умы никогда. История знает достаточно безумных по своей безудержности усилий, направленных на поиски и извлечение такого пустого слова. Оно не возможно. Пессимизм по всей линии. Игра ужаса и надежды. Мы всегда приходим в назначенный пункт, невзирая на то, что опыт обманчиво обещает его отсутствие. Но и оно невозможно. Об этом множество исполненных меланхолии сказаний, и лишь детские сны не поддаются этому знанию до поры до времени. Angelus Nоuvo.
Читать дальше