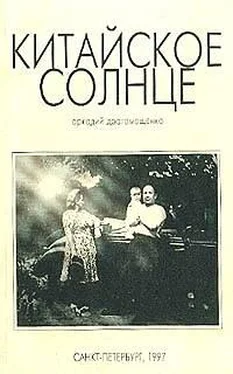— Не может быть!
— Чего не может быть?
— Не может быть, чтобы в то время он так писал!
— Может быть… — сказал о. Лоб. — Все может быть. Именно в те годы он так и писал. Конечно, много позже его стиль разительно изменился.
— Что значит "много позже"?
— Ну… — о. Лоб пошевелил пальцами в воздухе. — Спустя какое-то время.
— "Бергсоновское"? Но, вот, что еще интересно: кто это сказал?
— Возможно, я. Но, между нами, — уже не помню.
Недоумение долго будет напоминать о себе. Дни, когда недоумение и все сразу ни на что не похоже. Спрашивается, жалость к чему? Ну да, не возражаю. Именно тогда я придумал, что она умерла. Мы лежали с ней рядом. За стенами сарая стоял изжелта ослепительный полдень, под моими веками пульсировало мнимое солнце, а ее горячая рука лежала у меня на бедре.
— Почему ты плачешь? — спросила она.
— Потому что ты умерла. — ответил я.
— И что? Что осталось после моей смерти? И зачем тогда я? Ты не ответил ни на один вопрос.
Да, но я ожидал, что мимо окна мелькнет тень. Тень мелькнула мимо окна, к которому я не имел никакого отношения. Теперь был мертв я/он/он/они, вернее, мы оба, летящие к мнимому солнцу под моими веками, перемещавшему романтические фрагменты свидетельств закрытой книги и огромного сада, тоже входившего в повествование, сплавлявшего мельчайшие буквы. Они уходили в непомерную глубину умаления. Такова оптика. Таковы опасность, отечество, окружность.
Так или иначе, я стоял в тамбуре и, погружаясь в негу гипнотического состояния, в которое по спирали затягивала монотонность заоконного повторения одного и того же (стирающая вообще возможность различий), внезапно увидел надпись на откосе насыпи. Птицы клевали мои глаза. Они не отличались зоркостью. Ни птицы, ни глаза, ни остальные — среднего рода — люди.
Я никогда не был ребенком, ты права. Обычную для тех времен надпись, выложенную крупным, побеленным известью щебнем, — белой галькой в сказках мальчик отмечал свой путь. Скорость, преодолевающая дискретность: роль всевозможных мифологий. Размытые белые пятна (сегодня я еще более близорук) гласили (не помню) либо: "до встречи", либо: "берегись козлового крана", а дальше все терялось, хотя я думаю, что поиски истинной надписи привели бы к лежавшей под рукой (надо учитывать возраст!) сентенции — относительно истины либо ей противостоящего. Казуальность небесной механики: гром следует за молнией. Акустическое присутствие наследует зрительному уже прошедшему. Казалось мы были одержимы чтением молний. Гром представлял излишнюю и медленную чрезмерность. Задавая вопрос, я уже знаю, что ты скажешь в ответ. Невозможность обратной перспективы. Банальность юношеских откровений отнюдь не претит и сегодня, вызывая разве что привычное в своей терпкости чувство отрешенной грусти. Однако, другие предощущения той поры, неловко и впервые переведенные на строго выученный язык, — не были ли они в той же степени неотвратимо смешными? Ничуть не бывало. Возможно, слова "истина", "ложь" вовлекались в отношения по причине отнюдь не желания установить их значения, но потому как они в свой черед являлись условными фигурами, скрывавшими в себе совершенно иные предпосылки вещей, связей, в крайнем случае их измерения. Возможно, такое прочтение было результатом аберрации зрения, или произвольности угла, под которым мелькнули камни перед взором какого-то проезжавшего мальчика, которому в невероятно отдаленном будущем именно этот эпизод, касающийся рассыпающегося в белизне шипящих гранул зрения, вскипающего по краю вещества, потребуется для накопления времени, вернее, для внесения незримого момента случайности в повествование и для отделения себя от вымысла описываемого, то есть — достоверного. Эффект стереоскопии, оскопления привычного ветвления: все происходит до того, как разворачивает себя мгновение. Время излишне.
Так я сказал какому-то человеку, остановившемуся перед моим окном в ненастный летний вечер. Что я мог ему предложить? Партию в шахматы? Одно или два забавных наблюдения? До сих пор не знаю, кто проезжал, и где я об этом вычитал. Важна была не сама фраза, и не то, что кто-то бесследно исчез; хотя и об этом, наверное, придется рассказать, но все в свой черед, даже чтение молний. Можно здесь остановиться, на мосту, над домами, глядя вниз, туда, где когда-то текла река. Открыть бутылку пива, после выкурить сигарету — вот родина. Оказывается, ничего этого не жаль. Ни реки, ни мостов, ни осенних наводнений. И это — просто. Что тоже несложно. Нужно быть уверенным в одном, в том, что у тебя не отрежут обе руки в знак неразделенной любви к собственному народу, невзирая на то, что таких народов тьмы и тьмы, причем какой из них считает тебя своей неотъемлемой принадлежностью, неизвестно. Это зависит. Тогда вряд ли обойдешься одной отрешенностью и грустью, — придется учиться писать зубами. Чего жалеть? По стеклу ногтем. По песку водой. Нормально. А когда поймешь, что и это пустое, когда опять уяснишь, что мир является заурядной совокупностью возможностей, в которой величие и ничтожество имеют неоспоримое, не требующее никаких гарантий, право являть себя в одном и том же мгновении, и что они и есть та самая безымянность исчезновения мгновения как такового, может быть, опять наступит пора понять, что нет ничего, о чем бы стоило писать. А никто и не пишет. В нарочито медлительном продвижении, слово за словом вести к концу предложения, к краху, к великолепной кратчайшей вспышке, настолько неосязаемой, что останавливается в странном весельи сердце и нелегко даже уму подыскать ей соответствие в каком-то возможном повторении, ни единому из них (вплоть до воображения) не успеть запечатлеть молниеносное распыление, когда на месте ожидаемого возникновения ничего не оказывается, и повисает нечто наподобие умозрительной пыли, нескончаемо долго оседающей на предметы, предвосхищения, вещи, воспоминания, с одной стороны сохраняя их, привнося в них неколебимую неуязвимость: навсегда; а с другой привнося изменения в их очертания, — возможно именно этим качеством неминуемого постоянства в незавершаемости ожидания преображения. Только утренняя пыль обнаруживает ток луча. Мы просыпаемся. Мир завораживает. Ты спрашиваешь мир — "помнишь ли ты свою ночь?" Ответа нет. Забор остается непокрашенным. Но еще прекрасней созерцать увядание распыленного по нашим зрачкам луча, проносящего, подобно галактикам сновидений, то, что так и не стало делом существования.
Читать дальше