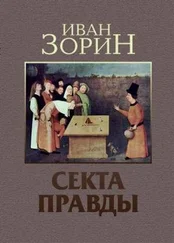− Что случилось? − высунулась из окна сонная старуха, про которую все забыли.
− Ничего! − крикнул Тяхт, радуясь, что его «муха» пролетела незамеченной. Последними в дом вернулись Кац, со смехом уверявшие, что после землетрясения сумки заметно потяжелели.
Ущерба от катаклизма не было, и всё же в доме затеяли ремонт. Снесли дощатый забор с лазейками, переставили лавочки к парадным, уничтожили голубятни, так что в воздухе ещё долго было темно от носившихся сизарей и почтарей. На их месте построили жестяные, гулко гудящие при ударе гаражи, а дом перекрасили в жёлтый цвет. На общем собрании на этом настояли Кац, устроив по знакомству дешёвую краску. Говорили, они сильно нажились, купив автомобиль такого же канареечного цвета.
− Жулики-бандиты! − шипели им вслед старухи на лавочках.
− У старых коров длинные языки! — хмыкали Кац, не поворачивая головы.
Выйдя на пенсию, Матвей Кожакарь продолжал заниматься математикой. Сидя у окна, считал галок, бегущие по небу облака, старух на лавочках, детей, запускавших во дворе бумажного змея, занося их переменными великого уравнения жизни. А сам, опрокидывая время, жил воспоминаниями. Поклоняясь прошлому, отметина которого на временной шкале проступала всё ярче, он сделал алтарь из школы, которую давно окончил. По вечерам, когда занятия в ней заканчивались, долго стоял перед дверью, откуда выбегал когда-то на выщербленные ступеньки, вспоминая ушедшее, молился, чтобы оно никогда не вернулось, оставаясь идеально чистым, не запятнанным текущим днём. Матвей Кожакарь сделал бога из своих несбывшихся надежд, мальчишеского смеха и неутолённого любопытства. Перед школьной дверью его вновь охватывало чувство, что мир загадочен и таинственен, и оно стало для него священным. В его религии было своё преображение — когда ранней весной, полный грозного самоощущения, он взглянул на женщин не детскими глазами, была и благая весть — когда, поздравляя с прекрасной аттестацией, его без экзаменов приняли в университет, были и свои святые — его ничем не примечательные учителя, которых ретушёр-время сделало легендарными. Альма-матер, рождавшая от непорочного зачатия, от святого духа знаний, стала матерью его бога.
Голодный день кидался на приманку другого и вис, как сушёная рыба. Однажды из резко затормозившей машины к Матвею Кожакарю вышел одноклассник, они обнялись, вспоминая живых и мёртвых, всплакнули, но темы быстро исчерпались. Расставаясь, обменялись телефонами, но оба знали, что не позвонят. Вернувшись в тот день, Матвей Кожакарь долго сидел, уставившись в стену, сосредоточенно размышляя об уравнении, которому подчиняется их встреча, как и вся остальная жизнь, а потом, не раздеваясь, упал на постель. Посреди ночи он внезапно проснулся, точно его осенила какая-то мысль, точно он был в шаге от своего великого уравнения. Вскочив, Матвей Кожакарь бросился к столу, чтобы записать формулу, хотел схватить ручку, но вместо этого схватился за сердце. «Великое уравнение жизни — это смерть, которая всех уравнивает!» − мелькнуло у него. Он лежал на спине, раскинув руки с торчавшими из пиджака кистями, и лицо его выражало испуганное недоумение ребёнка, не понимающего, за что его ругают: Матвей Кожакарь умер от разрыва сердца, не коснувшись постели.
Избегая соседей, он едва кивал на приветствия, так что с ним давно перестали здороваться, родственников у него не оказалось, и похороны устроили за казённый счёт. Гроб, однако, сколотили на средства жильцов, которые скинулись усилиями Тяхта, пустившего по квартирам шапку. Разогнав доминошников, гроб с телом поставили на струганный стол, ритуальный автобус опаздывал, и выходившие из подъездов останавливались, снимая шляпы, переглядывались, разливая по стаканам водку, чтобы проводить Матвея Кожакаря.
Так его узнал весь дом.
Ираклий Голубень, невысокий, кряжистый мужчина с подвижным лицом и манерами холерика, живший в первом подъезде вместе с Савелием Тяхтом, работал в редакции. Он считал себя хорошим писателем. Потому что не написал ни одной книги. «Настоящий писатель − всегда графоман, − говорил он, опуская усы в пиво, − а во мне этого добра − ни капли». Трезвым Ираклий Голубень был застенчивым и предупредительным. Но трезвым бывал редко. А пьяным становился несносен. «Что вы сделали для искусства? — хватал он за рукава. — Отвечайте!» Савелий Тяхт, когда-то писавший стихи в школьную газету, встречая его пьяным, не давал ему раскрыть рта: «Мои заслуги перед литературой огромны — я избавил её от графомана!» И тыкал себя в грудь пальцем. «Люблю! − лез обниматься Ираклий. — Я сам такой!» А на другой день ему делалось стыдно, и он с неделю не показывался, выходя, как кошка, по ночам. Развалившись в кресле перед зеркалом, он тянул из бутылки пиво, время от времени чокаясь со стеклом: «Кто пьёт — ещё ребёнок, кто не пьёт — уже старик!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу