И вот, во имя всего, что соткалось здесь между нами в последние дни, я прошу, я требую от тебя быстрого, немедленного ответа — опровержения некоторых упомянутых ею фактов. Эта фраза, мне кажется, вырвалась из ее глубин на поверхность невольно, как кислая отрыжка вырывается из переполненного желудка, и тут же была подхвачена моим пером, поставленным, как известно, на службу тебе. Я записал сказанное, потом прочел и поразился: «Бруно, убийственный, коварный враг языка». И еще прибавила с язвительным смехом: «Бруно нигилист».
Я пишу тут со всей убежденностью, пребывая в здравом уме и твердой памяти: Бруно Шульц — гениальный зодчий единственного в своем роде, неповторимого языка, великое тайное очарование которого в его изобилии, в его тучности, в перегнойном брожении множества шипучих соков. Любую вещь Бруно умеет описать десятками различных способов, каждый из который точно, как стрелка компаса, укажет на ее суть. Дон Жуан предается любовным играм в дикой безудержной страсти, граничащей с безнравственностью; не ведающий страха путешественник открывает неведомые земли на просторах человеческого языка… Случалось ли тебе, Бруно, достичь когда-либо края этого мира, того места, где ты, даже ты, вынужден был в отчаянье метаться по причалу, не находя корабля, готового увезти тебя дальше, в глубь новых языковых горизонтов, скрытых туманной дымкой? Неужели твоим последним берегом был причал данцигского порта в сорок втором году? Отвечай честно! Я не потерплю уверток: неужели когда ты стоял там, на краю пристани, задыхающийся и обессиленный, с кровавой пеной на губах, и оглядывался назад на фантастический водораздел, который проложил между собой и остальными созданиями в этом мире, на извилистый горный хребет, с высочайших вершин которого стекают потоки застывшей вулканической лавы, чьи склоны изрезаны глубокими ущельями, высеченными твоим пером, самым обыкновенным пером, прорезавшим на поверхности листа в ученической тетради неизгладимый след дерзновенного поиска, неужели ты усмехался тогда — с чувством удовлетворения и победы, — оттого что ввел в заблуждение нас всех? Что увлек за собой в эти непроходимые лабиринты и попутно с неправдоподобным коварством окончательно загубил сам человеческий язык?
Ты не отвечаешь мне. И она тоже молчит. Но это не обычное молчание: это вынужденная тревожная сдержанность, намеренное умолчание.
Я оставляю свою тетрадь вместе с ручкой на берегу, прижимаю их камнем, чтобы не улетели с порывом ветра, и спускаюсь к воде. Окунаюсь с головой, открываю глаза в этой едкой солености и стараюсь увидеть тебя под другим углом зрения. В мерцающем и ускользающем свете, просеянном сквозь толщу воды.
Теперь скажи мне: должен ли я обвинить тебя в предательстве особого рода? Смею ли я записать, что от волнующего пахучего соития твоего отчаяния и таланта с человеческим языком родился один из самых прекрасных и живописных обманов нашей культуры и литературы, или мы все ошибаемся и ничего не понимаем?
Я пишу пальцем по воде: неужели во имя этого обмана ты так щедро оплодотворил нашу речь своим семенем, что она раздулась сверх всякой меры, подошла, как тесто в квашне, разбухла до неприличия, украсилась двойными подбородками, умножила число кругов кровообращения, обрела семь сердец, которые гонят по ней противоречивые, сталкивающиеся потоки крови, и столь развитую нервную систему, что сама помешалась от болезненной чувствительности?
Я с удивлением смотрю на воду: буквы плывут по поверхности и не исчезают. Я продолжаю писать: и когда это огромное слоновье тело начало сгибаться и оседать под тяжестью собственного веса, безнадежно трескаться и рушиться, разве не пошел ты еще дальше и не превратил свой талант в мириады гнилостных микробов, способных переварить эту гигантскую падаль? Я смотрю на покачивающиеся на воде буквы и жду, сотрет ли она это свидетельство моих прозрений и подозрений. Не стирает. Я продолжаю писать: признаешь ли ты, Бруно, что превратился из мастера художественного слова в его гробовщика, в безжалостного карикатуриста? Осмеявшего заодно и самого себя? И во имя чего? Во имя чего ты причинил нам все эти неприятности?
— Что за дурацкие вопросы! — фыркает она вдруг и пугает меня, как обычно, внезапной отрыжкой. — Он хотел создать мир еще более богатый! — Быстренько пробегает глазами написанное и как будто стирает его, но нет, не стирает, а ловко защемляет меж двух тонких полотен воды, прячет в прозрачной впадинке между двух волн и утаскивает от меня, а потом уплывает себе дальше в некотором раздумье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
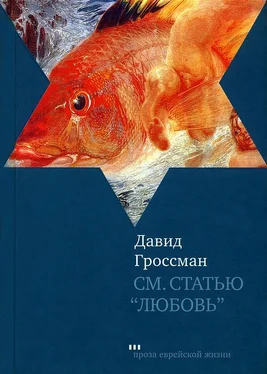


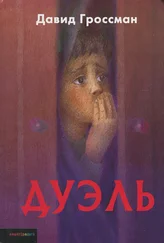


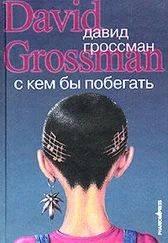

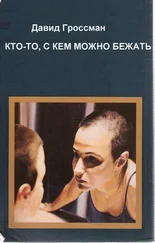

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
