— Я? Что я забыл?..
— Бруно! Раны. Помнишь? Не притворяйся, ты должен помнить.
— Разумеется. Как это я мог забыть? Ты права. Слушай:
Бруно неторопливо плыл в водах Северного моря. Вся эта безбрежная стихия принадлежала ему от горизонта до горизонта, а он прежде и не догадывался… Всеми своими живыми и мертвыми водами она льнула к его ранам. В ее таинственных туманных лабораториях трудились мудрые крабы и осьминоги, степенные исследователи, умеющие добыть особые вещества из таящихся в глубинах сокровенных запасов. Целебные потоки, призванные из Каспийского и Мертвого морей, прибыли взмыленные и бездыханные после того, как в течение многих дней и ночей протискивались по узким трещинам в толще земли, и со скоростью телеграфа были отправлены, по приказу взволнованной госпожи, в операционную, где опытные хирурги извлекли из них редкостные соли и минералы, необходимые для немедленного заживления ран. Водоросли, которые как будто случайно попадались Бруно по пути, обматывали на минуту его тело и пропитывали его удивительными дезинфицирующими веществами, а потом отпускали плыть дальше и возвращались к своей госпоже, радуясь ее радости. Только два надреза остались на его теле. Две крошечные ранки с двух сторон шеи, в сущности, совсем не ранки, но, скажем, два отверстия, то есть маленькие поминутно разевающиеся рты, а попросту — жабры.
Бруно неторопливо плыл в просторах Северного моря, голова его теперь постоянно была погружена в воду. Он уже не нуждался в ином кислороде, кроме того, что содержится в воде. Он всматривался в бездны: волны так отшлифовали линзы его глаз, что они оказались удивительно подходящими для пребывания в воде, и все предметы выглядели теперь невесомыми и волнистыми, цвета преломлялись, расщеплялись на тысячу новых оттенков и тончайших разноцветных колеблющихся нитей, чтобы тут же снова сплестись в очаровательный мерцающий пучок, который вновь распадается в волнах на чуткие струны волшебной арфы, устанавливающей ритм морского времени, струящегося по громадному гамаку, и, возможно, рука твоя оставит какую-то запись на поверхности вод, запись, которая никогда уже не повторится, оставит знак, который нигде невозможно оставить, волна отделит на мгновение образ тела от самого тела, утянет вдаль и по возвращении вернет — или не вернет, потому что сама никогда не сможет вернуться, и призрачные очертания нежных умиротворенных предметов отдаются на волю волн, покоятся в мерцании волн, в вечном дремотном колыхании моря, дышащего медленным ускользающим сном, запечатленным на устах коралловых рифов, и на листах с описанием этих снов будет произведен окончательный расчет, регистрация тех, кто позволил себе вторгнуться в море, или прошел по его берегам, или вознесся ввысь, и всегда из волн поднимется больше чаек, чем нырнуло в них, и эти новые окажутся тяжелее прежних, потому что они пропитаны всей тяжестью моря и его прозрачными невесомыми бликами, широкими взмахами громадного медлительного гамака: туда и сюда, словно маятник — туда и сюда, Бруно плывет…
Молчит, не отвечает. Волны сникли, сделались совершенно плоскими, но каждые несколько секунд покрываются мелкой рябью от мощного самодовольного храпа. Я оглядываюсь назад и вижу, что мол уже совершенно пуст, только один рыболов еще топчется по его краю. Высокий и крепкий, как маяк, попыхивает во тьме сигареткой. Осторожно, стыдливо я скольжу по ее щеке. Скоро утро, и мы должны поторопиться, если хотим досказать и дослушать про нашу встречу в Нарвии. Про подарок, который Бруно вручил мне там. Про приговор, который вынес мне.
Ах, Бруно! — это дивное ощущение восторга, которое заставляет сердце шириться и кровь стучать в висках! Я угадываю его. Я позволю себе описать, что ты чувствовал, когда косяк уплыл своей дорогой и оставил тебя в одиночестве — тебя, победителя! Единственный человек на всех необозримых просторах океана. Я завидую тебе и горжусь тобой. Ибо что же остается делать слабому, как не размышлять о своей судьбе и принимать решения? (Я умею произнести эти слова с таким глубоким внутренним убеждением, что они звучат как единственно верные.) Это безумное, отчаянное решение, Бруно, потому что слишком малы шансы осуществить его, но шансы уже не интересуют тебя: они принадлежат иному измерению и иным формам обсуждения. Измерению, в котором пользуются множественным числом и языком масс, в котором взвешивают людей на жестяных весах: «Мой еврей в обмен на твоего еврея», «Согласно моему подсчету, я уничтожил всего лишь два с половиной миллиона», и тому подобное. Даже язык двоих для тебя уже язык слишком многих, слова действительно важные произносятся, как видно, только на языке одного. Ты стал лососем. Очистился от всего, что к тебе пристало, до такой степени освободился от всех условностей, что сумел наложить пальцы на разодранную вену, через которую обычно вытекает жизнь. Ядрышко бестелесного существования, тайное биение жизни ты превратил своим путешествием в четкую геометрическую линию, которую дано различить глазами и проследить пальцем по карте. Ты знаешь, как я отношусь к тебе, что чувствую, ведь если бы не это, разве потащился бы я сюда, в Нарвию, разве стал бы доводить себя до такого состояния, до нервного истощения, грозящего безумием?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
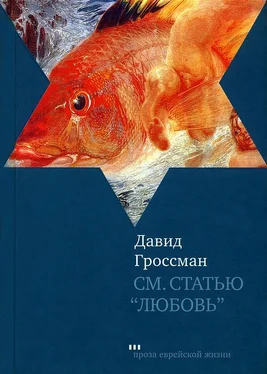


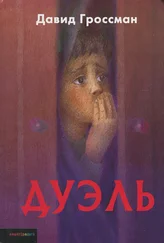


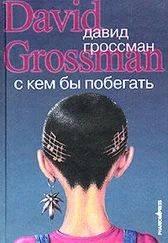

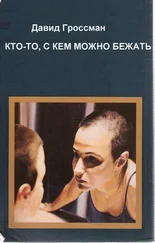

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
