Чтобы закрепить совершенную дикость своего одиночества, он избрал три места и превратил их в свое королевство. Он объявил себя государем. Все — грязнейшим и Наизлейшим Принцем. Таким был титул, которым он стал величать себя, завладев этими землями и учредив свою державу — державу всеми преданного ребенка, спасающегося от заброшенности бунтом и гневом.
Его первым и самым обширным владением был старый завод, построенный на другом конце леса Привольной Любви, у подножья холма, возле реки. После бомбардировок последней войны от его огромных цехов остались одни развалины, предоставленные ржавчине, воде и безмолвию. Царство холода, изъеденного сыростью железа и прогорклого машинного масла. Ему нравились эти запахи, особенно как пахнет железо, потому что он чувствовал в нем привкус крови. С металлических балок полуобрушившегося остова гроздьями свисали полчища летучих мышей. Он ничуть не боялся этих зловещих тварей с их отвратительно голыми крыльями и пронзительным писком. Он называл их «гнусь разлюбезная, гаденькие мои королевы» и отдавал им вздорные приказы громко крича под дырявым сводом. «Привет, гаденыши мои милые! — обычно вопил он, заходя в большие помещения, целиком заполненные гулкой пустотой. — Хорошо спали? Хватит дрыхнуть, милашки, пора кровь пососать у всех местных кретинов. Ну-ка, просыпайтесь, бездельницы, крысы летучие, уродины ночные, не то я вам лапы и крылья пообрываю!» Он вел с ними таким манером долгие речи, состоящие из смеси ругательств, угроз и ласковых слов, задрав голову к потолку. Единственное, чего ему удавалось добиться своим гвалтом, это разогнать одичавших кошек, прятавшихся по углам, да прочих тварей, кишащих более-менее повсюду. Потом он исследовал свои «верноподданные железяки» — большие вышедшие из строя машины, ржавые предметы или орудия, киснувшие в горьковато-соленой воде, оставленной дождями или речными паводками. «Эй вы, штуковины! — кричал он, стуча по ним железным прутом. — Вы тоже просыпайтесь! Давайте крутитесь, тряситесь, пошумите малость! Ну-ка, штуковины, за оружие и вперед, обдерите мне все деревья. Пошевеливайтесь! Грохочите, крушите, ломайте! К оружию, железяки!» Ему нравилось шлепать по этой черной, маслянистой воде, порыжевшей от ржавчины, извлекать оттуда гниющие, совершенно изъеденные предметы, разбивать остатки стекол болтами или камнями. И он орал, надсаживая глотку, сквозь все это пространство, сочившееся тишиной, где единственными звуками были осклизлые всплески воды да шелест летучих мышей в час их пробуждения. Горланил непонятные самому слова, и даже такие, что никогда не существовали. Выкрикивал их, словно швыряясь камнями, часы напролет. Исходил криком, пока всякий язык не терял смысл; до хрипоты, до головокружения.
Именно в ту пору слова стали для него подобны вещам — металлическим штуковинам, массивным и бугорчатым, которые не имели смысла, но попадали в цель. Попадали совершенно молча, попадали в страх, в смерть. Попадали в крик матери, в рыдания отца, в зловоние брата. «Кра-а-а-у!.. Послушай-ка, мамочка, как я тоже могу орать. Посильней, чем ты, и слыхать дальше. Кра-а-а-у!.. и ты, папаша, вечно хнычущий, будто мокрая курица, слушай: Крау-у арар-ран!.. И ты тоже, братец, дохлый любимчик с пузом, раздутым синюшной вонью, послушай-ка вот это: сссью-сссюит! Крак — кккраук-кррр-рра!.. Слушайте все втроем прекрасный гром моего сиротского голоса, который разобьет вам кости вдребезги и вышибет зубы!» И пустота дробила эти вопли своими отголосками. Он слушал раскаты собственного голоса, отраженного эхом, и в ответ горланил еще сильнее: «Кто говорит? Кто осмеливается отвечать? Это вы, ангелы? Чего вам надо?» Он мог часами вести эти бессмысленные диалоги с ангелами эха.
Но вскоре он отправился на завоевание новых территорий. Ему беспрестанно попадались фантастические следы, оставленные последней войной, например, огромный дот, затерянный в лесу, нависающем над заводом. Теперь этот дот стал всего лишь просторной помойной ямой, заросшей крапивой, колючками, папоротником. Там царила уже не ржавчина, а гниль. И он придумал себе язык, вполне соответствующий этой атмосфере разложения, созданный из бесформенных слов со зловещим звучанием и каким-то липким выговором. Он слюнявил эти слова и выплевывал на стену — в лицо брату. Ибо брат неотступно преследовал его, с места на место, и повсюду ему приходилось снова вступать с ним в борьбу. Но тут не было эха, все звуки, произнесенные в этом спертом, затхлом воздухе, тотчас же задыхались. Так что тут он скорее сипел, чем кричал, или урчал и глухо кудахтал. И сквозь все эти хрипы, которые он беспрестанно изобретал, вырывал из своего горла и внутренностей, в его тело и сердце проникали странные ощущения, смесь удушья, пота и грязи. Если крики в больших заводских цехах, отраженные пустотой и холодом, научили его чувствовать, как до крайних пределов напрягается сеть мышц, нервов и сухожилий, то здесь, в бункере, наполненном тепловатым зловонием, он испытывал на прочность слизистые и самые пористые ткани своей плоти. И его колотящееся сердце поднималось вместе с тошнотой до самого рта, чтобы таять на языке, обдираться о зубы, как перезрелый плод.
Читать дальше

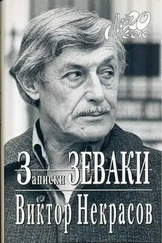










![Лили Сен-Жермен - Семь сыновей [ЛП]](/books/432919/lili-sen-zhermen-sem-synovej-lp-thumb.webp)