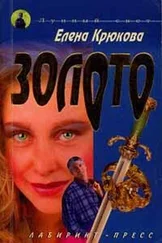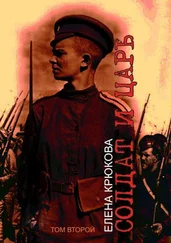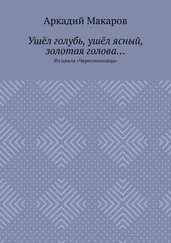Я взяла его лицо в ладони. Слезы закапали с моего склоненного лица на его окровавленное лицо. Я впервые видела чужую смерть так близко, в лицо. Я знала — я так близко больше никогда ее не увижу. Только свою.
Я встала с колен. Подняла револьвер, не видя, не глядя. Шатаясь от рыданий, вошла в избу. Рубаха была вся в крови. Будто это меня ранили. У Георга никогда не было телефона. Никакую милицию не вызовешь. Он жил в Степи. Он умер в Степи.
Я, плача, поднесла смит-вессон к лицу. Какой же маленький. Ну просто игрушечный. А настоящий. Я ковырнула ногтем стальной выступ. Защелка отъехала. Из корпуса выпростался барабан. Я глянула на просвет. Дырки смешливо зияли в черном барабане. Я слепо, потрясенно крутанула его пальцем. Барабан был пустой. Ни одного патрона.
В то утро его смерти я не увидела Луны, хотя она стояла высоко над домом, над заметеленной избой, маленькая, вся словно завалившаяся за синюю подкладку небесной заиндевелой шубы, как кислое сибирское яблоко.
Я смотрела только на землю.
А на земле было полно дел после смерти Джа-ламы. Когда прибыли жители и соседи, милиционеры и солдаты, старые бурятские бабки и курильщики-дворники, пацаны-зеваки и плачущие ярко раскрашенные подозрительные девицы, пожиравшие мертвое тело глазами, мне дохнуть было некогда. Людей охватила паника. Все кричали: «Бандиты!.. Бандиты!.. Всех надо бояться!.. Наше время такое ужасное!.. Нас всех в любой момент… перестреляют!..» В вещах Джа-ламы рылись, копались. Его избу беззастенчиво грабили. У него оказалось много богатого добра — не только коллекция музейного оружия, вся свалившаяся на пол в миг его смерти. Приехал и хамбо-лама — буряты пригласили его, прочитать Священные Мантры над телом, возжечь куренья. В шкафах отыскали связки драгоценных камней, золотой песок в кожаных мешках — «пшеничку», как его часто презрительно-ласково именовал Джа-лама, взвешивая мешочки на ладони, — золотые слитки, маленькие золотые статуэтки Будды, сидящего в позе лотоса, Белой Тары, Авалокитешвары. У кого он украл все это?.. Кто все это ему пожертвовал?.. Неизвестно. Это были магические вещи. Вещи, дававшие ему силы жить. Я одна знала это. А все, поджав губы, думали: вот бандюга, сколько награбил, а.
Скота — коров, коз, овец, кошек и собак — у Джа-ламы не было, и некого было, сложив погребальный поминальный костер, жечь на Крестовоздвиженской площади Иркутска. Нанзад-батор, правда, умолял: дайте мне его сердце! Я вырву его сердце, съем и стану таким же неуязвимым, как он!.. Все вокруг смеялись. Станешь, как он, сумасшедшим?!.. Иркутский дурдом по тебе, солдат, плачет!.. И никто не знал, как поступить с телом Джа-ламы, худым, жалким, голым, неуязвимым и бессмертным. Его останки тоже надлежало, по святым законам Степи, предать огню. Но ни у кого рука не поднималась на это.
И тогда вперед выступила я. Я сказала: вы на Востоке живете или не на Востоке. «На Востоке!.. — закричали все сначала робко, потом оголтело. — Мы живем на Востоке!..» Тогда сожжем то, что надлежит сжечь, сказала я жестко. И услышала в своем голосе звуки, склепывавшие железную речь Джа-ламы.
И бурятские старухи пихали друг дружку в скрюченные бока локтями и шипели друг дружке на ухо: гляди, гляди, это его вдова. «А зачем же она властям, солдатам отдала все драгоценности?.. щедрая!..» — «Да нет, дура, сумасшедшая, как и он…»
И подняли тело Джа-ламы на руки, и вынесли во двор, весь заметенный снегом, заметеленный весь. И высокое, прозрачное, как Байкал, голубое небо стояло над нами великой перевернутой прорубью. И головы наши, и глаза наши тонули в ней. И мгновенно мальчишки нанесли сухих веток, кедрового и елового лапника. И сложили большой костер. И подошел Нанзад-батор, и взмахнул ножом, которым хотели меня убить, и, по старому монгольскому обычаю, отрезал Джа-ламе голову — так отрезают от тела голову поверженного врага. И положили в костер тело Джа-ламы, и зажгли костер, подожгли с четырех сторон. И огонь обнял его тело, и сгорел он, и вместе с кедровыми ветками, с еловыми иглами обратился в пепел. Сгорела его кровь, его мясо и кости. А его голову Нанзад-батор насадил на пику, на старую аратскую пику из его же коллекции, уже наполовину растащенной милиционерами, соседями, пацанвой, и высоко поднял пику, и люди склоняли головы и шептали мантры, люди задирали головы, люди все прибывали во двор, люди валом валили со всего Иркутска, люди приезжали из Аги, из Иволги, из Верхнеудинска, из Гусиноозерска, из самого Улан-Удэ, из всех Дацанов, чтобы увидеть своими глазами торчащую высоко на пике голову Джа-ламы, того, кто еще в ранней юности съел в Тибете листья от Древа Жизни, одиноко в горах растущего, дающего бессмертие.
Читать дальше