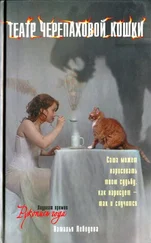Валерик не выдержал, сунулся посмотреть. Створка двери предательски скрипнула и зашуршала, цепляясь за дощатый пол.
Но Лера не проснулась: она лежала на кровати поверх пледа, не раздевшись, и тихонько похрапывала. Лицо её было нездорового сероватого цвета и казалось бесформенным, рыхлым. Она была словно Снегурочка, попавшая под лучи июльского солнца: начала таять, теряла былую холодность, так красившую её.
В комнате стоял ощутимый запах перегара.
Даня спал в своей кроватке, на боку, подложив под щёку круглый пухлый кулачок. Он всё ещё вздрагивал, словно доплакивал во сне недоплаканное. У него были опухшие веки и на щеках расцветало несколько красных пятен.
Валерик лёг спать, оставив свет включённым и дверь между комнатами открытой.
Он чутко спал и слышал, как Даня хныкал и как Лера кормила его грудью – и это снова было долго и тяжко. Через час стало светать, и Даня проснулся. Валерик забрал его себе, но не задремал возле, а усадил племянника в подушки и стал читать ему книжку с картинками. Даня что-то лопотал, взмахивал от восторга руками и время от времени прижимался к плечу Валерика ртом, присасываясь, стараясь то ли укусить, то ли выказать так свою безграничную радость.
А у Валерика на душе было тяжело: он видел, что красные пятна на Даниных щеках никуда не делись, а стали ярче и шире. Он слышал, как жалобно похрапывает обычно бесшумно спящая Лера, и думал, что всё в их семье катиться в тартарары.
Валерик играл с Даней, пока тот не уснул. Потом просто сидел, глядя на часы, стрелка которых отмечала уже начало рабочего дня. Вышел на крыльцо, позвонил и предупредил Александра Николаевича, что сегодня задержится, возможно, даже прилично. Пообещал писать дома статью, включил ноутбук, достал из шкафа бинокуляр и образцы.
Работа почти не шла.
Наконец, Лера проснулась и, хмурая, вышла из спальни. Она прошла мимо Валерика почти не глядя на него, и долго-долго оставалась в конце огорода, где были скворечник-туалет и банька. Потом вернулась. На кухне зашумел чайник.
Валерик вышел к Лере и сел на софу возле стола. Она готовила себе чай, не поднимая глаз: грустная, раздавленная, пристыжённая.
Лера пила сладкий чай чашку за чашкой. Её лицо светлело. Глаза становились по-обыкновенному ясными.
Проснулся и заплакал малыш. Лера не стала, как обычно, сидеть, выкраивая себе ещё минуту-другую отдыха. Она тут же сорвалась с места и побежала к ребёнку.
Даня не плакал. В доме царила тишина: спокойствие с лёгким оттенком вины. Валерик выпил чаю под аккомпанемент тишины, умылся и оделся, чтобы ехать на работу.
– Я уехал, – сказал он, едва глянув в Лерину комнату. Взгляд был быстрым, но Валерик успел заметить, что Лера мажет лицо сына кремом.
Он не успел ещё выйти на крыльцо, как Лера догнала его, развернула к себе, обняла и спрятала лицо, прижавшись к его груди.
– Прости меня... – шепнула она.
Она чувствовала себя очень виноватой, и Валерику стало стыдно, как будто он уже ударил её по одной щеке и сейчас замахнулся, чтобы ударить и по той, которую Лера сама подставила.
– Ничего, – шепнул он в ответ, – я же понимаю: сидишь тут совсем одна целыми днями. С ума сойти можно! Как в камере. И... и сорвалась...
– Сорвалась... – эхом повторила она. – Мне так плохо, так стыдно... Ты прости меня.
– Я простил, простил! Я и не обижался... Ты только... ты просто не делай так больше... Я буду тебя отпускать, чтобы ты смогла погулять, пообщаться... Но ты только не пей, не опаздывай... У тебя же сын, у тебя молоко...
– Да, да, – Лера кивала, слегка стукаясь головой о Валерикову грудь, а потом подняла лицо, прижала ладони к его щекам, так что прохладные пальцы коснулись висков, и начала лихорадочно целовать, попадая губами в лоб, в глаза, в подбородок, а потом прижалась к Валериковым губам.
Он ответил, но жар, волнение и дрожь не настигли его на этот раз. Чувства, казалось, подчинялись ему теперь. Валерик стал старшим и ведущим, сам удивился своей взрослости и тому, как Лера подчиняется ему, меняет свой лихорадочный ритм на его размеренный и спокойный.
– Мне на работу... – сказал он наконец.
– Иди, – просто ответила она, и в её голосе не было ни капли обвинения в том, что он опять уходит и опять оставляет её одну.
День, вслед за ночью, оказался жарким.
Миксамёбе приходилось не сладко. Она жаждала влаги и не могла думать о любви. Она замерла на месте и погрузилась в дремоту. Никого больше не звала, и её никто не звал.
К вечеру она стала покрываться жёсткой коркой, чтобы сохранить в худеющем тельце остатки влаги. Просто приникла к одному из волокон внутри щепки и, казалось, умерла.
Читать дальше