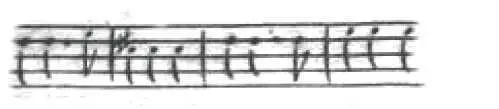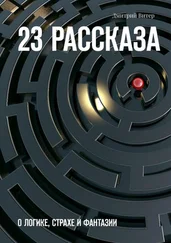Тут попугай не выдержал и как заорёт: «Дуррррак! Дуррррак!».
Что тут началось!
Моцарт — прыг на стол, и — давай отплясывать, рад без памяти, что попугая разговорить удалось. Гайдн кричит:
«Мои чашечки! Мои блюдечки! Мой кофейничек!» — за сервиз переживает (в Германии таких не делали). А тут жена в дверях появляется, с лицом совершенно неописуемым, и говорит: «Йозеф, ты помнишь, что у нас сегодня барон фон Свитен с супругой?» А попугай ей: «Пошла вон, дура!»
Ужас что было!
В общем, с тех пор попугай стал разговорчив без всякой меры, и говорил на хорошем немецком языке всё, что в голову взбредёт, временами самое неприличное.
Даже когда его об этом не просили.
Даже когда его просили не говорить, а помалкивать.
Однажды всё это так надоело домашним, что жена упросила Гайдна подарить проклятую птицу Моцарту. А тот — счастлив: повесил клетку у входной двери. Как только кредитор у дверей, попугай хозяина предупреждает (эзоповым языком): «Вставай! Судьба стучится в дверь!» Моцарт — шасть в окно, только его и видели.
Раз пришёл к нему молодой Бетховен с нотами, попугай принял его за кредитора, и, понятное дело, Бетховен Моцарта дома не застал. Зато ему так понравилась голосистая бестия, что он клетку тихонько с крюка снял и к себе утащил (вообще говоря, он не слишком-то церемонился, Бетховен). Моцарт вернулся: попугая нет. Ну, думает, видно, кредиторы за долги забрали. Легко отделался!
А Бетховен клетку у себя в комнате повесил, и до того про судьбу наслушался, что оглох. Но, конечно, музыки много написал, самой разной, в том числе и хорошей.
Ну, не то, чтобы хорошей, но — довольно сносной. и не то, чтобы всегда сносной, но. короче говоря, сами послушайте, и всё поймёте — про Бетхов-на, и про Моцарта, и про Гайдна.
И про попугая, конечно, куда теперь без него?..
1
Согласно раннебуддийской философии, мир является чередой вспышек-пульсаций, биений, каждое из которых несёт в себе черты предыдущего, но не «продолжает» его прямо и непосредственно, не «следует» ему и не повторяет механически — подобно шагу часовой шестерёнки, приводимой в движение другой шестерёнкой, но возникает спонтанно и непосредственно из ничего, из пустоты. Если задуматься, это не так уж удивительно: время в виде протяжённости, некоего гигантского полотна, простыни, по поверхности которой карабкаются живые существа — идея западного ума, не подтверждаемая чувством. Буддисты полагали, что вместо причинно-следственного механизма в виде линии, направленной из прошлого в будущее, у нас имеется мгновение. Одно-единственное.
За ним — ещё одно. Также — единственное в своём роде, неповторимое и тождественное лишь себе самому. И ещё мгновение.
Мгновение за мгновением, каждое — уникально, каждое содержит в себе всё сущее.
Мой преподаватель философии буддизма, Игорь Анатольевич Козловский, в качестве иллюстрации к сказанному приводил куплет популярной песни из советского кинофильма: Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг — за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
2
La Folia — это монашеские чётки. Мы движемся по спирали, каждый новый виток — мир, увиденный под другим углом. Вновь узнанный. Другой мир.
Казалось бы, то же самое можно сказать о любой форме остинато: пёрсолловский граунд или неаполитанская Gallarda, или Ciacon-na в любом виде, Canarios.
Но нет. La Folia — единственная в своём роде. Мелодическая линия, одна-единственная фраза, которая, собственно, и является путеводной нитью фолии — в ней всё дело.
3
Эта фраза заключает в себе историю Творения.
4
Четыре четверицы:

Утверждение >> Сомнение >> Пресечение сомнения >> Вопрошание

Предположение >> Согласие >> Возвращение >> Отступление
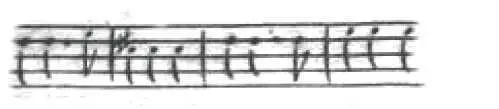
Утверждение >> Сомнение >> Пресечение сомнения >> Вопрошание

Ответ >> Полагание >> Возвращение >> Подтверждение
Так дышит мир.
Читать дальше