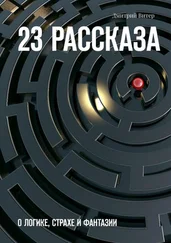«Он пошел в деревню и купил нож. Этим ножом он отрезал мясо со своего бедра, думая убрать червей с собаки и поместить их на свою плоть. Затем он сообразил, что если станет орудовать пальцами, черви умрут, потому что они очень хрупкие. Поэтому он решил убирать их языком». Правдоподобия этой истории, кроме всего прочего, добавляет умение рассказчика использовать малозначительные, казалось бы, детали (вот, мол, не оказалось под рукой ножа)…
Мои любимые персонажи у Андерсена
— Бутылочное Горлышко, Штопальная Игла и прочие предметы, поверившие в то, что разделяют проклятье человека — способность к неконтролируемой лавинообразной рефлексии. Эти безумные живые/неживые вещицы извергают фонтан речи, способный в два счета свалить с ног, они говорят безостановочно, их чудовищный, невероятно агрессивный «поток сознания» выматывает уже на первой странице (поэтому, верно, эти сказки такие короткие). Крайние состояния психики сменяют друг друга со скоростью проплывающих над головой облаков в ветреную погоду. Обмылок сюжета интереса не представляет, зато важно проследить эволюцию голоса каждого персонажа, фактически — историю этого голоса в партитуре. Почему-то Андерсен ассоциируется у меня с музыкой молодого Шёнберга — последнего романтика (впрочем, как и Шёнберг, Ганс Христиан представляется мне человеком, который взаправду молодым не был никогда).
возникает в тот момент, когда мы верим, что — не одни.
Ветрено, и температура соответствует цифре сезона. Окна нараспашку. Зимой наметает сугробы, зато что ни лето — ползучие растения обновляют путь: пробираются на ощупь, поднимаются по стене, оплетают кресло, в этой живописи провожу дни — по-царски. Запах их способен свести с ума входящую в комнату женщину, и сводит.
Воздух теряет свежесть после первого глотка, поэтому дышать нужно, глотая понемногу тут и там, расстояние между воздушными потоками приходится соблюдать, как правила дорожного движения. Куда проще впустить ветер в комнату и жить с ветром.
У соседей звенят ложки. Глава семейства извлекает праздничный звук, тронув бокал лезвием ножа. Требуя тишины.
Но какая, к ерепям, тишина?
Летучая мышь, попискивая, несёт в когтях мышь не летучую.
Близко, и в некотором отдалении, и далеко, и очень далеко вертятся колёса машин. Летят самолёты. Люди поют и любят. Стреляют. Едут. Из моего окна на слух можно распознать карту города: экономическую, политическую и геологическую, включая залежи полезных ископаемых.
Всё звучит. Жизнь — побрякивает в теле — звучит. Происходит.
Тель-Авив уходит под воду. Апокалиптическое: резиновые сапоги, лодка на моторном ходу. Издали видел двух малайцев, переходящих улицу вплавь.
Ангелы, управляющие погодой, пишут коллективный пасквиль в Верховную Раду — как бурлаки Нептуну.
Гремят колёса, хлопает парус небес.
За окном чокнутая луна — как у Гоголя.
Летят самолёты и птицы, за стеной людей казнят по телевизору. В комнатах зажигаются лампы Павлова.
У человека в результате производственных отношений во лбу вырастает цоколь. По капле не выдавишь — не прыщ, и врачи бессильны, остаётся корчевать самому — заживо, с проводами. Электрик — моё кредо, монтёр высоковольтного. эволюция Говорят, будет третий глаз — как у Шивы. Прожектор духовных энергий. И тогда я, крейсер аврора, непотопляемый, с орудием вселенского добра наперевес выйду навстречу хулителям и лжепророкам.
Скоро выведут новый вид — homo ficus, чтоб стоять в кабинетах: радовать глаз и озонировать воздух. Экологически чистый способ воспроизводства, притом — качественное освоение внутреннего пространства помещений с низкими потолками. Баухаус. В офисах люди чернеют со временем и становятся так или иначе похожи на комнатные растения, увядая окончательно под конец производственной деятельности. Почему не приспособить их к новому жребию от рождения, почему не выращивать человеков, как у Герберта Уэллса, в кадках?
Вот окна соседей слева осветились, я заглянул к ним: Людмила, Иван да Марья. Людмила родила Марью. Иван любил Людмилу, чтоб она родила Марью. Без его любви она б не родила. Марья любит Ури. Ури полюбит Марью, и Марья родит Шимона.
Ничего из ряда вон выходящего.
Но если вместо всего этого опылить ивановой пыльцой пестик Людмилы в лабораторных условиях, Марья уже не будет страдать от несчастной любви в 20 и болезни Альцгеймера в 60. Перестанут запрещать детям до 16-ти любоваться любовью, и даже напротив — принесут Марью и Шимона в класс, и преподаватель ботаники начертит на доске схему их личных обстоятельств.
Читать дальше