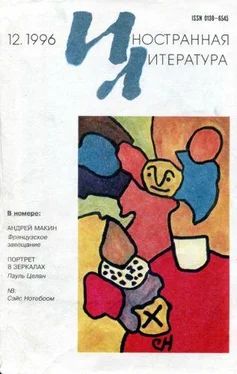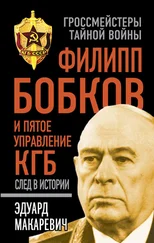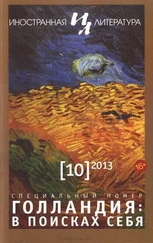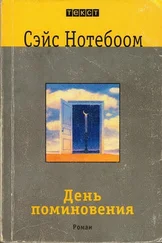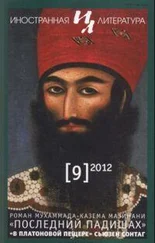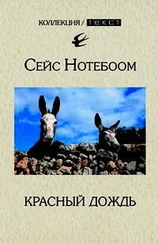То место у поручней было моей исповедальней. Я обнаружил, что, если всегда стоять на одном и том же месте, остальные сами начнут подходить к тебе. Лишь Алонсо Карнеро не подходил никогда. Он облюбовал себе другое местечко. Однажды я сам приблизился к нему. Рядом с ним стояла женщина, вместе они всматривались в черную прореху ночи. Звезд не было видно, и тогда я впервые телом ощутил присутствие подземного мира. По мере того как продолжалось наше плавание, казалось, что все, о чем я на уроке перед классом повествовал как о вымысле, становилось все более действительным. Океан, так же как и гибельная Фаэтонова скачка, был одним из блистательных номеров моей программы, я даже мог имитировать то, как он, черный и зловещий, зыбился, окружая плоскость земли, приводящая в ужас стихия, в которой знакомые предметы лишаются привычных своих контуров, бесформенные остатки древнейшего правещества, источник происхождения, начало всего, сумятица, хаос, дышащая опасностью изнанка мира, то, что предки наши называли природным грехом, извечная угроза нового всемирного потопа. А позади, на Западе, куда закатывалось солнце, куда ускользал свет, оставляя людей во власти иной бесформенной стихии, ночи, простиралось море, в котором стоял Атлант и которое носило его имя, а за ним — окутанное тьмой царство смерти, Тартар, куда был низвергнут Сатурн, Saturno tenebroso in Tartara misso, [48] Сатурн, что изгнан был во мрачный Тартар (лат.) .
не думаю, что смог бы когда-нибудь выразить, с каким сладострастием произносил я ту латынь. Это как-то связано с вожделением, с телесным блаженством, обратная форма наслаждения пищей. Ах, каким же дубиной Сократом был тот учитель, который в один прекрасный день, когда шторм бушевал на море, повез туда своих учеников, тех немногих, кто не закатился хохотом от этой идеи. Поезд в несколько вагончиков следует из Эймёйдена в загробный мир, но чуть подальше на молу тот вдруг сделался совершенно реальным, беснующееся море билось о базальтовые глыбы, словно жаждя поглотить их, небо сплошь заволокли зловещие тучи несчастья, ливень нещадно хлестал пятерых, стоящих на молу, и, оглушенный пронзительным визгом чаек, я трудился сверхурочно и вопил наперекор реву бури, обратясь туда, на Запад, и там, за клокочущей бездной воды, конечно же, был он, сокрытый мир теней, пересеченный четырьмя смертоносными потоками. Что бы я ни кричал, чайки, словно богини мщения, эхом откликались — об Орфее и Стиксе, и мне вспоминается белое, прозрачное лицо возлюбленного ученика моего, ибо в таких лицах миф становится явью. Перед лицом поколения, от которого спрятали, замазав лаком, смерть, я так и стоял там взбесившимся гномом, вопя о вечных туманах и гибели, Сократ, застрявший в Эймёйдене. На следующий день д'Индиа протянула мне листок со стихотворением, что-то там о ненастье, и несчастье, и одиночестве, я сложил его и сунул в карман, у стихов не было формы, они походили на современную поэзию, какую читаешь в газетах, и, так как говорить этого мне не хотелось, я вообще ничего не стал говорить, а теперь здесь, на борту корабля, ломал голову, куда же подевалось то стихотворение. Где-то среди всех прочих моих бумажек, в какой-то комнате, где-то там, в Амстердаме.
У него были ее глаза, у этого мальчика. Латинские глаза. Он смотрел, как я подхожу к нему, не отводя взгляда. Когда я встал совсем рядом, женщина сняла руку с его плеча и исчезла, словно рассеявшись в сумерках. «Наш вожатый» — назвал ее как-то раз капитан Декобра с издевкой и благоговением. Она была здесь, и в то же время ее как бы не было, но — присутствуя или отсутствуя — именно она не давала нам распасться, превращая несуразную нашу компанию в некую общность, причем, казалось, никого даже не интересует вопрос, почему это так. Зайдя к Алонсо Карнеро, я уже не помнил больше, что хотел ему сказать. Единственное, что пришло в голову, было: «О чем вы думаете?» В ответ он пожал плечами: «О рыбах в море». И конечно, я тоже сразу задумался об этом, о той невидимой, отвернувшейся от нас жизни в тысячах метрах под нами, и меня бросило в дрожь, и я ушел к себе в каюту.
Этой ночью мне снова приснился я сам в моей амстердамской комнате. Так что же, разве я никогда не занимался ничем другим, а только спал? Я захотел разбудить себя и обнаружил, что включил свет в своей каюте, обливаясь потом, в смятении. Я не хотел больше видеть того спящего человека, его открытый рот, незрячие глаза, одиночество ворочающегося, исступленного тела. После Марии Зейнстра я уже никогда не провел ни одной ночи ни с кем, то было, как мне тогда казалось, последним моим шансом настоящей жизни, что бы ни означало это слово. Принадлежать кому-нибудь, принадлежать миру, и прочая белиберда в том же духе. Однажды я даже заговорил о детях. Язвительный смешок. «Что это за странные идеи такие взбредают в нашу лысую голову? Ведь мы больше так не будем?» — она вещала это, будто стоя перед целым классом. «Ты-то — и дети?! Есть люди, которым ни в коем случае нельзя иметь детей, и ты из их числа».
Читать дальше