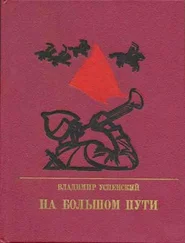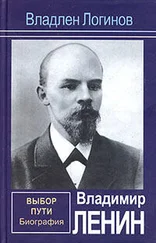У него высокий лоб, зеленые глаза, толстый нос в пурпурных прожилках, седые виски, мешки под глазами, приземистая, сутуловатая фигура. Спина согнутая, почти круглая, вроде черепашьего панциря. Почти двадцать лет прошло, а я как сейчас вижу перед собой Борю, Бориса Моисеевича Фридкина, как сейчас слышу его высокий тенор, в котором звучат одновременно озабоченность и раздражение, вижу его тонкие, почти женственные руки, вижу, как в промежутке между двумя фразами он опускает взгляд и проводит по губам указательным пальцем левой. Вот это напряженное молчание, затопляющее промежуток между фразами, врезалось мне в память куда острее, чем сами фразы.
И вот я уже подготовил сцену, расставил статистов, вот по лестнице у меня медленно, с трудом поднимается тучная старуха, Борина теща, вот она останавливается на каждой лестничной площадке отдышаться. Ее взгляд упирается в пожарную лестницу у самого окна.
— Нате вам, пожалуйста, воры и убийцы, залезайте на здоровье! — бормочет она. — В такой-то стране пожарные лестницы — забирайся, кто хочет! Это надо же!
Она роется в сумке в поисках ключа, находит не сразу и разражается бранью, наконец, выуживает его и быстро отворяет серую обшарпанную дверь, на которой нет таблички с именем жильцов.
— Ну, растолкуй ты мне, на кой черт мне эта Америка сдалась?
Борина теща вздыхает и с опаской грузно опускается на шаткий стульчик, единственный предмет мебели в комнате, хоть сколько-нибудь заслуживающий это название. Стул обиженно кряхтит, немного покосившись на правую сторону, но пока еще держится, и Борина теща может отдохнуть после ежедневной прогулки к заливу. Она тяжело дышит. Разноцветное платье, голубое в розовый цветочек, которое старуха купила еще в Ленинграде, прилипло к ее вспотевшему телу. Боря неприязненно смотрит на ее обвисшую грудь, вздымающиеся и опадающие при каждом вдохе и выдохе жирные подушки на бедрах и бесформенные ляжки.
«Вот гадость-то! — думает он. — Скоро и Галя такая же будет. Ладно, я, конечно, и сам не Аполлон, но все-таки…»
— По мне, хоть бы эта Америка провалилась, мне-то от нее какой толк? — злобствует теща. — Жара — не продохнуть, я чуть в обморок не хлопнулась. Вот ведь не думала, не гадала, а точно от солнечного удара окочурюсь… И вообще, тут на улицу хоть носа не высовывай: если не жара прикончит, то негры с пуэрториканцами…
— Господи, Гися Исааковна, — вмешивается Боря, — да эти негры вас до сих пор и пальцем не тронули!
— Меня-то не тронули, — ворчит старуха, — а вот малышку Милочку, Крейнину внучку… Да не смотри ты на меня, будто не понимаешь, о ком речь… Да знаешь ты ее, знаешь… Ты же сам слышал, они у нее цепочку с шеи сорвали… А Крейна сама как-то раз вечером, поздно уже было, на такую банду наткнулась. Один с цепью велосипедной, другой с такой дубинкой деревянной, да ты знаешь же, от игры этой дурацкой, когда один идиот палкой ударяет по мячу, а все остальные бегают по кругу, как сумасшедшие…
— Бейсбол.
— Точно! Другой с бейсбольной битой!
— Ну и что? Чем дело-то кончилось?
— А ничем! Убежала она!
— Крейна Соломоновна — убежала?! Быть не может! Да она ж едва ходит!
— Едва ходит, едва ходит… Много ты понимаешь! Я б сама опрометью неслась, если б на меня такой негр с бейсбольной битой шел! А потом, ты что, здесь в раю земном? Инженер, а по утрам в лавке фруктовой подрабатываешь, днем халтуришь, квартиру этой спекулянтки из Одессы красишь. Это что, по-твоему, жизнь? А с мебелью как? Хватит, я больше на матраце спать не могу. Мне кровать нужна.
— Всему свое время, Гися Исааковна, Москва не сразу строилась.
— Что ж ты, мне на старости лет еще Москву строить прикажешь? — брюзжит старуха. — Что я тут забыла: улицы, люди, солнце, язык — все чужое. А кто о мужниной могилке позаботится? Да, в магазинах всего много, ничего не скажешь, да только мне-то оно на что? Мне-то это зачем с моей диетой? Соли нельзя, жирного нельзя, колбасы нельзя, ветчины нельзя, яиц нельзя. Что ж мне есть-то остается? Ну и на что мне она, твоя Америка?
А Боре и возразить нечего, он пожимает плечами. Он ведь и так всей Маленькой Одессе плачется, что он, мол, жертва, в том числе жертва этой злобной старухи, которая в Ленинграде любимого трамвайного маршрута лишилась, а она на нем к мужу на кладбище ездила. Вот в Нью-Йорке давным-давно никаких трамваев нет.
На обратном пути с кладбища старуха частенько к подруге своей захаживала, они не один десяток лет знакомы были. Но это подруге не помешало как-то раз в пылу перебранки Гисю Исааковну «старой, жадной, страшной жидовкой» обозвать. Само собой, она, конечно, это так, в запальчивости, не нарочно, и сразу извинения попросила, но Гися Исааковна после этого случая немедленно решила следом за дочерью в Америку уехать. Эту историю тоже все соседи знают.
Читать дальше